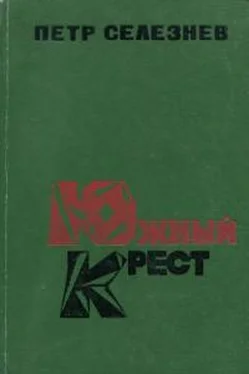Боясь поверить собственным ушам, Игнатьев даже привстал:
— Веригин? Ты постой, постой! Неужто Веригин?
— Не знаешь, — повторил Коблов. — Уже без тебя… Ты-то — как? Помню, как развели нас тогда в разные стороны, так и с концом. Тебя-то — куда?
Коблов увидел, что Игнатьев как-то съежился вдруг, спрятал голову в плечи. Как тогда, в бомбовой воронке, когда подошел к ним артиллерийский капитан. В лице, во всей фигуре опять проглянуло беспокойство, которое было у Игнатьева во все дни, пока выходили из окружения.
— Ты-то как? — опять спросил Коблов.
— Я-то? — засуетился Игнатьев. — Меня, брат, чуть к стенке не прислонили тогда… Но только — ничего. Опять послали искупать.
— Чего искупать? — пугаясь своей догадки, отпрянул Коблов.
— Не знаешь… — тихонько вздохнул Игнатьев. — Как будто не знаешь, — поднял, вскинул голову, глянул в глаза недоверчиво и просительно. — На роду, что ли, написано… Отделили меня тогда, набралось нас человек пятнадцать, ненадежных. Посадили на полуторку, повезли. Вот ведь как получилось: вас в одну сторону, меня — в другую. Должно, не понравился я капитану. Помнишь, молоденький такой капитан, с забинтованной рукой? Должно, лик у меня подозрительный. — Игнатьев крутнул головой, как будто хотел убедиться, слушают или нет. Глаза у него посуровели, он заговорил ровным, спокойным голосом, словно о ком-то постороннем, не о себе: — Привезли в часть. Новая часть, только что сформировали. Обо всех спорах-допросах я рассказывать не стану — долго. А вот как на Харьков наступали…
— Постой, — сказал Коблов, — армия-то — наша?
Игнатьев махнул рукой — не все ли равно? И заторопился, зачастил неразборчиво, прихлебывал крутого воздуха, тянул его сквозь зубы, задыхался и пристанывал:
— От нашего полка осталось… Считай, ничего не осталось. Но пополнили. И опять шли вперед, тонули в Северском Донце… — словно вспомнив, что его слушают, что перед ним Семен Коблов, протрезвелым голосом сказал: — Сам ведь знаешь, направление было одно.
Коблов кивнул:
— Знаю.
— В те дни я видел столько героизма и смертей, что, как ни сложится дальше война, Харьков останется в памяти до конца.
Коблов согласился:
— Останется.
— В окружении, голодные, израненные красноармейцы дрались до последнего вздоха. Командир полка, весь в бинтах, со знаменем и с пистолетом. А кругом немцы. И нет никакого спасения…
Игнатьев посмотрел вокруг отрешенным взглядом. Точно забыл, где находится, с кем говорит. Словно увидел себя опять под Харьковом, под полковым знаменем, словно опять — никакого спасения.
— А меня — снова… Что случилось — не знаю. Как в атаку шли — помню. И знамя помню. Что было потом — не знаю. Очнулся — ведут меня под руки. Двое ребят… А сами в крови. Это что же такое? Идем в колонне, кругом немцы с автоматами. Это что же, плен? Ну да… И хоть бы ранен!.. Веришь, душа у меня перевернулась. Скажи сосед: «Давай, застрелю тебя», ответил бы: «Стреляй». Ить в третий раз! Из боя — на ту сторону. — Игнатьев поднял голову, сказал серьезно: — Должно, судьба такая.
Было заметно, что переживает, мучится, ищет причину своих неудач, ищет оправдания у товарищей, у самого себя.
— С привала бежал, — продолжал Игнатьев. — Охрана небольшая, нетрудно было. Сутки пролежал в яме, метрах в сорока от гредера. Слышал, как разговаривают, томашатся на дороге… А я здоров как бугай, документы в кармане. От этого и радостно, и жутко. Выйдешь к своим, школьник и тот не поверит тебе.
За спиной Игнатьева покашляли:
— Школьник не поверит — он не воевал.
Игнатьев опять заторопился:
— Шел на восток и ночью и днем. Правду скажу: не боялся. В форме шел, при всем параде. Только автомат немецкий. Ну вот… Считай, открыто шел. Заходил в села, чтобы побриться, хотел принять смерть гордо. Что ни говори, в живых остаться не надеялся. Таким манером ушел я за Оскол. Однажды, на хуторе Грачи, случай свел меня с девчонкой. Да… Вот оно как было: решил я заночевать. Огородами, кукурузой подошел к самой околице, смотрю. Я к этому времени стал нюхом угадывать, в какой двор зайти, куда постучаться. Дело было вечером, заря истухала. Вышла на крыльцо девчонка… Ну, какая девчонка? Невеста. Гляжу на нее, даже страшно сделалось: на такую-то охотники найдутся. Ну, думаю, девонька, как-то сложится твоя судьба? А девчонка глядит на восток. Потом стала креститься. Верите? Перевернулось во мне. Кажется, все отдал, только бы сбылись ее желания. Говорит она что-то, говорит, а из глаз слезы. Потом разобрал: «Андрюшенька, Андрей…» Брата звала либо милого… Вышел я из кукурузы, сказал: «Не пугайся, моя хорошая. Свой». Не думал я, не гадал — бросилась ко мне на шею: «Товарищ, товарищ!..»
Читать дальше