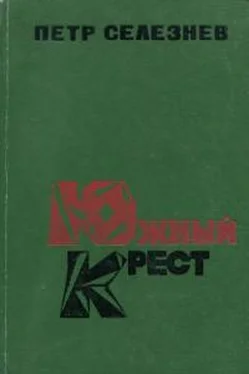Ему никто не отвечал.
С вечера разделили, каждому раздали по две гранаты и по три десятка патронов. На два пулемета осталась одна лента. Шорин, раненный в грудь, третьи сутки не приходил в сознание, невнятно, чуть слышно просил пить.
Воды не было. И хлеба не было.
Старший лейтенант Агарков выкликал по фамилиям… Проходило десять — пятнадцать минут… Может, полчаса. И Агарков опять начинал выкликать. Как будто главным было известить, что сам он жив. Чтобы слышали.
Они по-прежнему занимали круговую оборону. Только отбиваться — чем? Костя Добрынин тоже был ранен, лежал возле самой стены, под амбразурой. Его знобило. Бедро горело, точно жгли огнем. Он хотел пить, однако знал, что воды нет ни глотка. Из-за этой самой воды и стукнули его. Вечером, в сумерки, вылез наружу набрать, надавить снега в котелок. Чтобы растопить над коптилкой. Тут-то его и подкараулили. Рана вроде неопасная, в мякоть. Затянули, забинтовали. Да пока врачевали, крови потерял много. Сейчас его то в жар бросало, то в холод, нога болела от паха до ступни — не пошевелить. Одолевали немощь, сонливость, толпились странные видения: Волга течет огнистая, красная. А через нее — белый мост. Холод обжигает руки и лицо, мороз туго сдавливает голову, а Волга по-прежнему не становится, течет. И красная почему-то, словно вылили в нее едучий краситель. А мост через Волгу не простой — ледяной. Это же надо!.. По мосту идет-шагает дед Степан, в шинели, в серой папахе. Только нет, не дед Степан. Это отец. Из-за Волги-идет. А вот уже нет никакого моста, отец идет по красному льду. На брюках генеральские лампасы. Лед начинает ломаться и трещать оглушительно громко, как будто идет война.
Какая война?
Костя видит серые проемы подвальных окон, видит узкую щель бойницы… Наверху, в стороне рвется и ломается, слышно, как бегут, в железный клубок свиваются пулеметные очереди. От грохота у Кости ломит в висках. Он видит, как в оконные проемы врываются ослепительные вспышки, видит небритое лицо Игнатьева…
— Наши! — говорит Игнатьев. — Наши!
В голосе его слышится надежда. Но только что же? И вчера было вот так, и позавчера…
— Наши! — повторяет Игнатьев.
Голос у него какой-то странный, как будто решился на последний шаг.
— Вы что, Игнатьев? Вы о чем? — спрашивает Костя.
— Я живым не дамся! А ты как? Ты — сумеешь?
— Стрелять я могу, — говорит Костя и пытается приподняться. — Могу.
— Ты вот что, гранаты давай мне. Себе оставь парабеллум.
Костя понимает. Ну что же, все правильно.
— Я сейчас доложу командиру роты и Коблову. Мол, так и так. Ночью гитлеровцы, может, и не пойдут, а с рассветом — обязательно. Шансов у нас нет. Так, мол, и так — мы с Добрыниным решили.
— Гранаты возьмите, — говорит Костя.
Снаружи грохочет и ломается. Что-то рушится, обваливается, а пулеметы секут безостановочно.
И вчера так было, и позавчера… Да нет, все-таки не так было.
Что это сегодня?..
— Возьмите, — повторяет Костя.
В голове ясно и трезво, нет ни робости, ни сожаления. Только бы увидеть отца…
Сколько осталось до рассвета — час, два?
К нему не приходит мысль, что жить осталось час или два, что будет лежать он холодный, мертвый. Ему только не хочется, что в подвал придут гитлеровцы, станут лапать, обшаривать карманы.
Ему не хочется только этого. Все остальное бывает каждый день.
Если бы подняться… Он мог бы еще стрелять.
— Ничего, — надтреснуто, ломко говорит Игнатьев. — Мы им покажем. Напоследок мы еще настукаем!
— Я поднимусь, — говорит. Костя, точно приказывает самому себе. — Поднимусь.
— Надо только доложить Агаркову и политруку Коблову.
Те подошли сами. Было заметно — спешат. И Анисимов с ними. Лихарев подошел, жадно докуривает цигарку.
— Ну вот, — сказал Семен Коблов. — Давайте советоваться.
— Мы решили, — сказал Игнатьев. — Мы с Добрыниным живыми не дадимся.
— Так, — согласился Коблов. И повторил: — Давайте советоваться. Анисимов пойдет к нашим.
— Зря, — сказал Игнатьев. — Боевые порядки плотные, не проскочит. А тут свое дело сделает.
Лихарев тронул забинтованную голову:
— Я считаю — пусть идет. Может, подфартит ему… Хоть расскажет обо всем.
— Так, — дохнул Коблов. — Вот так и мы с командиром роты…
Бой кипел все круче, растекался, ширился… Издалека, из-за Волги, прилетел тяжелый снаряд, ударил совсем близко.
И вчера, и позавчера…
— Игнатьев, давай письмо, — сказал Анисимов. — С божьей помощью доберусь. Доподлинно комбату в собственные руки.
Читать дальше