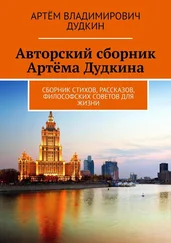И вот реабилитацию я получил только в 1956 году.
После объявления мне приговора, я временно около месяца находился в распредлагере Беломорска. Далее отправили в Архангельскую область пилить лес. Затем в 1945 году нас отделили от бытовиков и отправили в лагеря Коми АССР, где были политические со всего света. Кого там только не было! И генералы, и профессура… Здесь я работал на шахте, сперва рядовым, затем горным мастером, до 1969 года, а с 1969 года живу в Калинине, все еще тружусь, только работаю в охране. Семья из 4-х человек: мы с женой, сын и дочь. Жить бы ничего было, но попал впросак. Купил дом, который еще в 1970 году должен был попасть под снос. И каждый год обещают сносить, капитальный ремонт запрещен, только поддерживающий… Вот 20 лет и поддерживаю. Короче говоря, на этот ремонт израсходовал столько средств, что мог бы новый построить. Ужасно холодно зимой.
В финскую кампанию я воевал на Карельском перешейке, затем был оставлен в кадровую и до войны служил в Петрозаводске. Я этот город хорошо знаю.
Не судите меня за мое нескладное сочинение. Старый стал, мне 3 апреля исполнится 73 года, и часто болею.
Вот теперь обо мне Вы все знаете.
С уважением Г. А. Чернов».
Сколько бы автор-документалист, стремясь к сюжетной завершенности, ни ограничивал себя рамками определенных событий и судеб, однако в повествовании о поиске, идущем по следам войны, едва ли достижима та желанная точка, когда можно облегченно вздохнуть: наконец-то всё выяснено, всё встало на свои места!
Такая была война, что и теперь, через сорок три года, каждая удача в поиске почти неизбежно рождает новые загадки, выявляет новые безвестные имена, и — снова укоряюще мечется и трепещет перед глазами беспокойное оранжевое пламя Вечного огня…
Конечно, если цель работы замкнуть только на самой повести, то всегда можно найти подходящий завершающий момент. Стоит лишь одно домыслить, другое сдвинуть во времени, третье вообразить.
Поначалу так и думалось. Четыре года назад, когда я впервые взялся за эту рукопись, она так и называлась — повесть «Карельский парень».
Пусть это не покажется парадоксом, но тогда о фактической стороне всей этой истории я знал столь мало, что тех моих малых знаний вполне доставало, чтобы выстроить план довольно складной по композиции и динамичной по сюжету повести о загадочной гибели отряда «Мстители» и о судьбе его последнего бойца — Алексея Грябина. Зияющие документальные прорехи и отсутствие многих свидетельств легко и самонадеянно заполнялись в моем сознании воображаемыми сценами и событиями, благо была возможность опираться и на партизанский, и на писательский опыт.
Повесть вполне бы сошла за документальную. Я знал не много, но другие-то знали еще меньше, и навряд ли кто-либо стал уличать автора в неточностях или вольностях в обращении с историческими фактами. Скорее всего, авторская версия событий так и закрепилась бы за той трагической страницей партизанской войны, как это зачастую происходит на наших глазах даже с теми книгами, где документального вообще — лишь имена, даты и географические названия.
Это-то и остановило меня тогда.
Далеко ли мы продвинемся в постижении правды о минувшей войне, если на смену уже бытующим в народе легендам литература под видом документальности станет подставлять новые, пусть и оснащенные штрихами правдоподобия? Не честнее ли, в таком случае, вообще отказаться от документов, дать волю воображению и писать просто художественную повесть?
Но при чем тогда окажется судьба реальных бойцов и командиров отряда «Мстители», павших на высоте 195,1 и так надолго по нашей вине ушедших в безвестие?
Это была уже не дилемма, а настоящий заколдованный круг. Выход из него оставался один — вновь вернуться к документальным истокам и продолжать поиски.
Я и теперь знаю далеко не всё. Более того, до конца так и не удалось выяснить и документально подтвердить то, с чего, собственно, и начинался сам поиск — подробности последнего боя отряда 8 августа 1942 года. С нашей стороны нет ни свидетелей, ни документов. Но они должны быть и, конечно, есть у финской стороны. Ведь живы еще солдаты роты лейтенанта Алакулпи, участвовавшие в том бою. Неужели никто из них так и не решится рассказать — что же произошло там, на высоте 195,1?
Остаются не проясненными до конца детали другого трагического эпизода — гибели Орлова, Грябина и Афанасьева, отправившихся в село Паданы за продуктами. Тут имеются и документы и свидетельства. Однако документы весьма скупы, а свидетельства хотя и подробны, но косвенны.
Читать дальше
![Дмитрий Гусаров Партизанская музыка [авторский сборник] обложка книги](/books/392778/dmitrij-gusarov-partizanskaya-muzyka-avtorskij-sbo-cover.webp)
![Ольга Ларионова - Формула контакта [авторский сборник, 1991]](/books/34363/olga-larionova-formula-kontakta-avtorskij-sborni-thumb.webp)

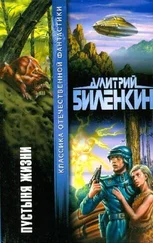
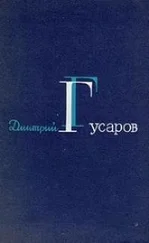
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Сказочка про козявочку [авторский сборник, издание 3-е]](/books/430743/dmitrij-mamin-thumb.webp)