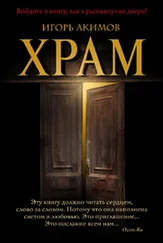Дот был уже неразличим в клубах дыма и всплесках пламени, дрожь земли поймала свой ритм; ее трясло, как при малярии.
Пора.
Майор Ортнер не заметил, как оказался на бруствере. А ведь он поднимался по земляным ступеням, ступал на них. Очевидно — смотрел, куда ступает… Выпало. Стерлось из памяти. Это не дело, сказал он себе. Ведь эти минуты — последние в моей жизни, и потому каждую из них я должен использовать до предела, выжать досуха. Все видеть, все слышать, все обонять. Чувствовать каждый флюид. Как эфемерида, которой отпущен всего один день жизни, и она за этот день должна успеть все, успеть всю жизнь. А мне отпущен даже не день, мне отпущено всего несколько мгновений. Неужели я так и не пойму — даже теперь — этот секрет: уметь жить?..
Он взглянул на небо, на землю возле сапог. И ничего не почувствовал. Не было сродства. Глаза видели — но не пускали в себя. Он был как бы отделен от окружающего мира. Уже отделен. Как после последнего причастия. Тело еще дышит и способно на какие-то действия, но душа уже покинула его. Она освободилась от тела, как от заношенной рубахи, и готовится к новой жизни. Может быть, душа пока где-то рядом, — кто знает! — но она уже не думает о тебе, потому что думала она мозгом, а мозг ею тоже брошен. Тело еще не поняло, что произошло, ему кажется, что оно засыпает, только без хоровода неясных видений, а значит и без обычно следующих за ними снов. И только мозг осознает, что это конец; но что он может сейчас, всеми покинутый?..
А что, если я сплю? — вдруг подумал майор Ортнер. Сплю — и все это мне только снится? Снится дрожь земли, снится припекающее солнце, на которое в такую рань уже невозможно смотреть, снятся эти солдаты… Солдаты смотрели на него из траншеи, по их глазам было видно, что они что-то ждут от него… Ну что ж, сон так сон. По крайней мере, будет интересно досмотреть его до конца.
Майор Ортнер поправил косынку, поддерживающую раненую руку (боль опять ушла), улыбнулся солдатам, и сделал правой рукой в серой лайковой перчатке легкий, приглашающий жест, совсем как дирижер, который, уже удовлетворенный овацией, предлагает музыкантам встать, чтобы и они ощутили себя допущенными к барскому столу.
— Пора!
Он сказал это негромко, но его услышали все, во всяком случае — увидели все, весь батальон. А он повернулся — и неторопливо зашагал вверх по склону, совсем как в первое утро, может быть — след в след. Он шел прямой и расслабленный, и пытался вспомнить, каким он был в то первое утро. Но вспомнить не мог. Прямой? — возможно; и даже наверное прямой (для самоутверждения); а вот расслабленный — вряд ли. Ведь он так реально ощущал тяжесть взгляда снайпера! И взгляды сотен глаз своих солдат. Взгляды, в которых не было для него опоры. Как он был в те минуты одинок! Впрочем, рядом был Господь. И это знал снайпер. А потом это поняли и солдаты. Возможно — поняли, уточнил майор Ортнер, хотя наверное он этого не знал тогда, и теперь уж точно никогда не узнает. Единственного человека, который меня понимал, я убил, и это неспроста, думал майор Ортнер, в этом что-то есть. Какой-то ключ от самого потаенного в моей душе, от моей сути. Но думать об этом поздно, да и бессмысленно. Конечно, мозг смог бы найти объяснение — он всему может найти объяснение! дать трактовку, подобрать простые и точные слова, — но это был бы суррогатный кофе: вкус и цвет вроде бы тот же, а по сути — самообман…
Он не оглядывался, но ощущал присутствие солдат. И конечно же слышал их. Слышал, хотя не слушал: рассыпное многозвучие их шагов было как бы фоном; фоном на подмалевке канонады. Он слышал их слева и справа, и позади. Потом на периферии зрения стали возникать их фигуры. Вот теперь майор Ортнер поглядел на них. И влево, и вправо, и через плечо. Солдаты шли неторопливо. Несли свои карабины, как сумки с рынка: кто в опущенной руке, кто на плече, уравновешенным, едва придерживая в цевье одной рукой; а кто и вовсе как коромысло, через оба плеча, придерживая одной рукой за ствол, а другой за цевье. Сейчас карабины не были оружием. Оружием они станут потом, посреди склона, когда придет время бежать, а может быть и стрелять…
С каждым шагом приторный смрад разлагающихся тел становился все тяжелей, волны тротиловой вони не могли его заглушить. Как же я не подумал, что последним моим ощущением в этой жизни будет не боль, а отвращение от каждого вдоха?..
Обоняние убило праздник.
Майор Ортнер опять взглянул на солдат. Похоже, смрад не влиял на их настроение. Ну конечно же! — вспомнил он, — ведь это же я распорядился, чтобы в них влили все наличное пойло. По ним не скажешь, что они пьяны, но ведь наверное и по мне нельзя сказать, что у меня сейчас на душе…
Читать дальше