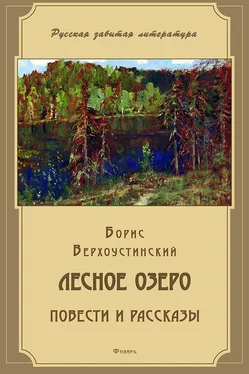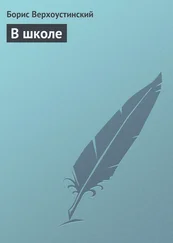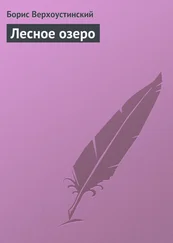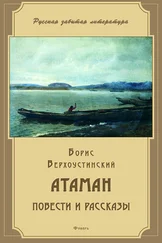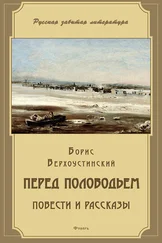Шелестит листва, перепархивают птицы с ветки на ветку, пахнет прелью земной.
Устав бродить, Марк Павлович ложится в тени дерев на мох и курит, слушая певучую лесную тишину. В лесу теряется связь с современностью: такой же он, как и встарь, сотню, тысячу лет назад. И тогда так же пели птицы, так же незлобиво шелестела листва. Ходил и ходил по дремучим дебрям неведомый богатырь — не глянет ли из-за елей, не свиснет ли буйным посвистом, не запоет ли про старину, про деяния…
Однажды Марку Павловичу удается увидеть кровавый поединок. Прилетает черный ворон, садится на кряжистый сук сосны, отрывисто каркает:
— К-кар! К-кар!
Прилетает другой ворон, опускается на вершину березы, тоже каркает:
— К-кар! К-кар!
Оба они не замечают притаившегося в тени грибника-человека.
И опять кричит один:
— К-кар! К-кар!
И опять ему вторит другой:
— К-кар!
Оба они, точно условившись, в одно время слетают с своих мест и в воздухе сшибаются. Летят перья, черным комом падает один из бойцов; его убийца, покружившись над ним, улетает. Так кончилась давнишняя вражда или, быть может, негаданная встреча.
Марк Павлович подходит к сраженному — ворон лежит в траве, раскинув черные крылья; череп разбит, зияет кровавая рана, из ноздрей струится кровь, глаза заволакиваются. Увидев человека, хищник вздрагивает, бросается в сторону, падает, обессилев, и с смертельной ненавистью каркает:
— К-к-кар!
Чтобы прекратить его муки, Марк Павлович растаптывает его ногами.
Уходя от ворона, Марк Павлович сожалеет о той утраченной дикой доблести, когда в смертельных поединках решалось, кто лишний на земле и кому суждено быть на белом свете.
Перед заходом солнца, с полным лукошком грибов, он идет обратно по лесу. Вдалеке играет пастух на свирельке, собирая стадо, — бубенцы гремят, колокольцы позвякивают. В деревне петухи поют предвечерние песни.
«Так окончился их короткий, но трагический роман!» — насмешливо думает Марк Павлович про Эмму Гансовну.
Набранные грибы он относит к отцу Аввакуму.
— Ну что, еще дырника не нашли?
— Не выкопал, врач. А знатные грибы… Все поедим с христианским смирением.
Однажды, вернувшись в село, Марк Павлович находит отца Аввакума взволнованным. На грибы он даже не смотрит.
— Врач! — потрясает он газетным листом. — Дела-то, дела человеческие!
— А что?
— Мобилизация объявлена.
— Да ну?
— Война будет, не иначе.
Следующие дни приносят известия о начавшейся войне. Отец Аввакум читает с амвона манифест; в селе скрипят телеги, шумит мужицкая толпа.
Казенка закрыта, пьяных почти нет; у запасных, отправляющихся на войну, лица суровые. Не слышно ни буйных криков, ни похвальбы, но эта угрюмая сосредоточенность похожа на пробуждение дремлющего в своей берлоге медведя. Вот вылезает и почнет крушить собачьи хребты, а подвернется охотник — заломит и его. Плачут бабы, цепляются руками за ободья телег, припадают к мужицким сапогам. Гармоники визжат, ребятишки шмыгают между телег.
…Лобастый великан с огненно-рыжей бородою, в жилете поверх красной рубахи, наставляет жену:
— Себя крепко блюди, твое, стало быть, такое звание, солдаткино… Хлеба-то, почитай, сняты все; трава плоха, да, авось, продержишься.
Загорелое, круглое лицо бабы заплакано, рот приоткрыт: то ли она не понимает чего-то, то ли сказать что-то хочет, да не ведает — как.
— Свет ты мой, Ермолаюшка, и на кого же ты покидаешь-то бедных нас! — вдруг, залившись слезами, причитает она. Мужик обнимает ее одною рукой и целует.
— Брось, Манюха… Убьют так убьют, не убьют — то и ладно. А коли овдовеешь, неровен час, бери мужика не лодыря, чтоб работящий был да не хмельной…
Лобастый великан влезает в телегу и, перегнувшись, опять целует бабу. Лошади трогаются, телеги со скрипом выезжают из села. Бабы расходятся по домам. Село пустеет; на дорогах, на траве около волостного правления свежие перепутавшиеся следы колес.
— Побьем, врач, немцев, побьем! — кричит отец Аввакум, выходя из церкви.
Через несколько дней он является к Марку Павловичу, крайне опечаленный.
— Читал? — грозит он кому-то свернутой газетой.
— Читал.
— Бельгию жаль мне, врач. До чрезвычайности… И что, врач, за люди — львы!.. Эдакая страсть. Спать не могу, покойница попадья больше не видится во сне, — не до того, точно оглушили меня, а я перстами уши прочищаю, не верю глухоте моей. И летопись не пишется…
Марк Павлович спрашивает его:
— А дырника не взяли?
Читать дальше