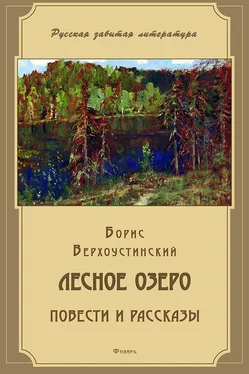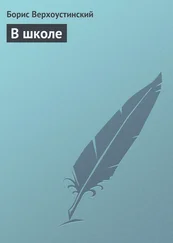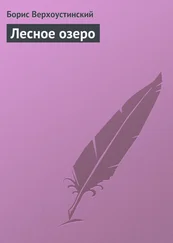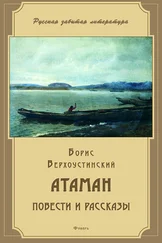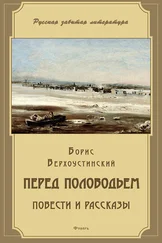Марк Павлович, не глядя на нее, курит папиросу.
— Доложу ему! — стучит пальцем по столу жена. — А ей, подлячке, глаза выцарапаю, чтобы не зарилась на чужих…
— Молчать! — вспыхивает Марк Павлович. — Оставь, Марья. Убирайся подобру домой. Пойми ты, что в матери мне годишься… Грязная бабища!
Она кричит:
— А не уйду! А не уйду! Навеки с тобой буду! Со мною закон…
Она срывается со стула и хлопает ладонями Марка Павловича по щекам. Ом сперва теряется от неожиданности, затем схватывает жену за горло и бросает, как куль, набитый тряпьем, на пол. Она визжит. Опомнившись, он протягивает ей руку, она поднимается.
— Так?! — задыхается она от злобы. — Бить?
Высунувшись в окно, она вопит:
— Люди! Люди! Сюда! На помощь! Караул! Спасите!..
Он оттаскивает ее за подол от окна.
— Молчи, Марья!
— Не замолчу!
— Тебе говорю — молчи!
— Не буду молчать. Пусть все видят, как ты обращаешься с женщиной. Палач!
Изловчившись, она опять ударяет его по щекам. Он теряет всякое самообладание, бьет ее чем попало, она кусает его руки, плюет ему в лицо, царапается.
— Убью!
— Режь, подлец!
Вырвавшись от нее, он уходит из дому. Около палисадника народ. Начальник почтово-телеграфной конторы подленько хихикает, раскланиваясь с Марком Павловичем. Сквозь толпу пробирается отец Аввакум.
— Успокойте ее, — просит Марк Павлович, — совсем бешеная.
— А вы, врач, куда?
— Пока она здесь, я домой не возвращусь. Так ей и передайте!
— Ах ты, Господи! Экая воин женщина! У меня попадья помягче была. Не унывай, врач, все миром уладится. Приходи ночевать ко мне.
Марк Павлович спешит подальше от места стыда и позора. Как пьяный сапожник, дубасил женщину кулаками… Тьфу, черт!
Около трех берез он останавливается и ждет, не появится ли из сумерек, из вечернего тумана белый призрак, но дорога пуста.
Он идет к имению. Он не поддастся жизни, будет бить по ней тяжелым молотом — звени, греми, вылетайте, искры.
В имении тявкают псы. Он, скрываясь в кустах, проходит мимо парка. Огни погашены, всюду темнота. Мелодично позвякивают в загоне бубенцами коровы, пахнет недавно доеным молоком.
— Эмма! — неожиданно вырывается из его груди крик. Собаки начинают отчаянно лаять, почуяв чужого. Марк Павлович недоволен собой: не хватало лишь того, чтобы сбежались люди и поймали его в кустах, как провинившегося школьника. Но бежать он тоже не будет!
Когда собачий лай утихает, с крыльца дома управляющего бесшумно спускается женщина. Марк Павлович, притаившись, ждет, Эмма проходит мимо него, он ее окликает.
— Как ты неосторожен, — говорит она, — тебя могли услышать.
Они вступают в парк. Искалеченные статуи в темноте кажутся живыми существами; кваканье лягушек, писк козодоя наполняют воздух смутною тревогой.
Марк Павлович рассказывает о событиях дня.
— Что теперь делать?
— Ты должен сам знать, — равнодушно отвечает Эмма Гансовна, — ты мужчина.
— Ах, я совсем не про то… С одной стороны — ложь, с другой эти подлые удары… Она меня назвала палачом… Понимаешь — палачом? Как сохранить себя? Я — человек искренний, а лгу вместе с тобою, интеллигент, а дубасил супругу, словно безграмотный мужик.
Эмма гладит его по руке маленькою нежною ладонью, это успокаивает его.
— Мой муж спит, но он может проснуться. Уходи.
— Нет, еще немного.
Она чутко прислушивается — как много шорохов и скрипов в ночной тишине! Вот хрустнула ветка, будто чья-то рука отстранила ее; вот пролепетала листва…
— Кто-то идет…
— Мы встретим его!
— Уходи, мой милый!
Она подымается со скамьи, но он удерживает ее за руку. Она опускается обратно на скамью и прижимается к нему, склонив на его плечо свою голову. Они говорят шепотом, но им кажется, что их голоса раздаются по всему ночному парку.
— Я не выношу его храпа. Храпит на весь дом. Грубый, сердитый!
Он прерывает ее жалобы поцелуями, она страстно отвечает на них. И он слышит, как поет ее маленькое лукавое сердечко тихую песнь…
На рассвете Эмма провожает Марка Павловича до ворот парка и крадется домой, тревожно глядя по сторонам.
Над полями ползут серые туманы, но скоро выглянет солнце, и они развеются, осев влагой на зеленях и хлебах…
У отца Аввакума все спят; Марк Павлович долго стучится, наконец, слышатся шаги.
— Врач?
— Я!
— Экий гулюн.
Отец Аввакум отмыкает дверь.
— Шатун, брат, шатун! Вот напишу в летописи. А супругу понемногу уломал… Был во рве львином! Шестьдесят пять рублей ежемесячно — уедет восвояси. Кротости наставил, недостойный иерей.
Читать дальше