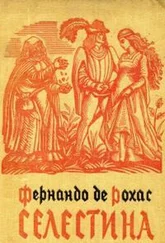От шутов-карликов Франсиско Байеу повел меня к «Менинам». Картина висела тогда в очень низком зале, так, что чуть ли не касалась потолка, и была закрыта шторами. Едва шторы раздвинули, на картину упал свет из зарешеченного балконного окна, за которым трещали скворцы. Нигде, даже в Италии перед Сикстинской мадонной, я не испытал такого сильного чувства при виде человеческого творения. Мне хотелось закричать, упасть на колени, до крови кусать руки. Больше ста лет прошло, как умер Веласкес, и вот он уничтожал меня своим безжалостным превосходством; и в то же время я преисполнялся гордости от мысли, что человеческое существо, как и я, рожденное женщиной, могло сотворить такую совершенную красоту. Веласкес остановил миг, выхватив его из суеты дворцовой жизни, скромный миг: придворная дама подает инфанте глиняный сосуд. И он убеждал меня, что любой момент, каким бы незначительным он ни выглядел, достоин быть восславленным в величайшей из картин. На картине «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» я остановил время — в крике и во вскинутых кверху руках человека, которого должны казнить. («Святой отец, а если господь глух к нашим голосам, как не понимают наших слов эти палачи?») Даже написав картину, я еще не понял, что она — оборотная сторона «Менин» и что «Расстрел» — мой ответ Веласкесу на его спокойствие в час величайшей трагедии. А может быть, и не я это понял, а тот, кто и сейчас, когда я умираю, продолжает жить во мне.
Сперва потерял речь, потом — зрение. И уже не вижу ни Бругады, ни Пио де Молины, ни врачей. Никогда бы не подумал, что смерть, оказывается, — покой и невероятная ясность сознания, как будто не человек из плоти и крови выходит из предсмертной агонии, а книжный персонаж спускается со страниц. («Вполне может случиться, потому что судьба наша кажется не настоящей, а написанной сумасшедшим писателем, и оттого здесь из века в век и повторяется одно и то же».) Моратин как-то процитировал мне фразу из воспоминаний Казановы; не столь уж дерзка мысль; некий серьезный писатель, полагая, что создает вымысел, на самом деле описывает подлинное событие. Быть может, тот человек, которого я по временам чувствую в себе, решит когда-нибудь придумать и описать умирание, а это будет та самая агония, которую переживаю я сегодня в предутренний час.
Теперь, перед рассветом, когда я едва различаю свет и тень, в полумраке вкруг меня встают-возникают видения. Мною написанные картины ожили и двинулись, точно быстротечная история — история моего времени. Махо и махи из «Игры в жмурки» встали в хоровод, как встанут они вкруг моей могилы в церкви Сан-Антонио-де-ла-Флорида. Разряженный франт с деревянной ложкой и с завязанными глазами оборачивается моим боевым быком. Он крутится на месте и вслепую, наугад, с разбегу пытается боднуть сцепившихся за руки плясунов. А те, не переставая смеяться, уходят от его наскоков, уворачиваются, изгибаясь всем телом, отпрядывают в сторону. Рядом Мартинчо в позе topa-carnero всаживает бандерильи в темно-рыжего круторогого быка, точно ветер вырвавшегося из загона. На арене Бородач пропарывает рогом желудок Пепе-Ильо, Хуан Лопес запаздывает с ките, и Хосе Ромеро перемахивает через барьер, спешит на помощь сопернику. («А когда я его укрощу, я брошу мулету и стану работать с одними часами в руках — пусть знает, что пробил его час».) Людская толпа, до мозга костей мадридская, в которой перемешались и слились все городские слои, высыпала в честь престольного праздника в долину Сан-Исидро. Двухместные, четырехместные экипажи, повозки и кареты, а между ними — мадридцы, разбившись на группки, играют в карты, болтают, прогуливаются, ухаживают за женщинами. На белых скатертях, прямо на траве, рекой льется вино из Вальдеморильо, и кругом — белые зонтики, серебряные камзолы, красные болеро, бархатные кафтаны и треуголки с плюмажами. («Величайшее чудо — не в том, чтобы преобразовать настоящее, а в том, чтобы предвосхитить грядущие перемены. Вот так наши бренные тела перейдут в эти полотна, подобно тому как палитра живописца преобразует холст в зеркало…») Во дворцовом зале Карлос IV с семьей сошлись и улыбаются, собираясь мне позировать. В центре — король, на шаг впереди остальных. Инфанта Мария Луиса и принцесса Бурбон Пармская держит на руках младенца — своего первенца. Принцесса Мария Антония отвернулась. Она смотрит на картину, висящую на стене за спинами собравшихся, где изображена оргия трех гигантов — мужчины и двух женщин. Мужчина — это я. Королева, выпятив грудь, улыбается мне беззубым ртом. («Мальчику надо подобрать корсет. Груди — как у девицы».) Облаченная в траур и двуликая, точно Янус, Мария Тереса обнимает меня, а сама смотрит на незнакомца, потихоньку крадущегося к ней по земле. Та же Мария Тереса, все еще в трауре, летит по воздуху, поддерживаемая тремя скрюченными чудовищами. («Если эти люди — такая же мразь, как и мы, в чем, скажи, смысл наших и их жизней?») На Пуэрта-дель-Соль конница мамелюков врезается в толпу. Площадь превращается в мясорубку: люди, кони, кровь, разодранные знамена, сабли, ножи, конское ржание, проклятья, визг, немые вопли. («То была война, в которой мы неминуемо должны были потерять все».) И снова толпа: пьяные, увечные, голодные, прокаженные, калеки, горбуны карабкаются вверх по склону холма, а впереди — слепец рвет гитарные струны. Я не слышу их голосов, но знаю, что они славят Желанного и рабство. Но вот постепенно толпа, Мария Тереса, летучие чудовища, семья Карлоса IV, гуляющий люд из долины Сан-Исидро, Бородач, Пепе-Ильо, Мартинчо — все сбиваются в один огромный круг, а в центре — пляшет хоровод из «Игры в жмурки». Скачет вокруг моего Боевого быка с глазами Сатурна, только на этот раз они у него завязаны, и он вслепую тычется во все стороны, бодая воздух.
Читать дальше
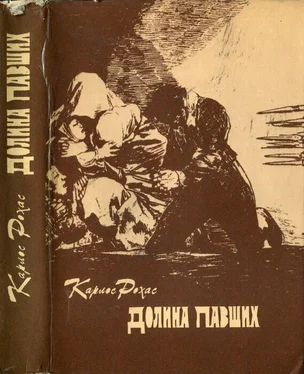






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)