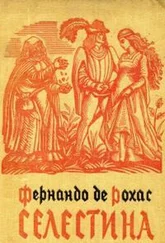Приехал Хавьер, я успел еще обнять его до того, как у меня случился последний удар. Потом, когда я уже был нем и недвижим, они с невесткой и Марианито переехали в гостиницу, потому что его жена не могла выносить этого зрелища — как я умираю. Все это нехотя поведала мне Леокадия, когда я звал сына и внука. Одного не сказала — куда она девала Росарито, видно щадит, прячет, чтобы та не видела бесконечной, мучительной стариковской смерти. Сама Леокадия совсем исхудала и постарела от бессонных ночей, сидит у постели, не отходит ни днем, ни ночью и уже не поминает моих и ничего не говорит про наследство. («Ты совсем слеп, не видишь даже собственной глупости! Дурак из дураков! Не понимаешь разве, они и приехали за одним: убедиться, что ты не изменил завещания? Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы знать только, что они получат твои деньги, дом и картины. Получи они все это теперь же, они бы бросили тебя на чужбине и в глаза бы тебе не глянули…») Но сегодня ночью и Леокадия уснула, усталость одолела. Около меня остались люди, мне совсем чужие. Два врача-француза (Vous êtes un gran homme, un peintre de la Chambre. On va vous soigner!), хозяин дома, Хосе Пио де Молина, в прежние времена, после победы Риего, — алькальд Мадрида, и мой ученик из Академии Сан-Фернандо, последовавший за мною в изгнание, — Антоньито Бругада. Вот бы сказать им: еще немного, и я окажусь в обществе Веласкеса.
Вслед за речью отказало зрение. Теперь вокруг меня — полная тишина, потому что по губам читать больше не могу. Хотя еще различаю с трудом силуэты и совсем неясно — лица. На врачах черные сюртуки. Бородки, как у Ван-Дейка. Они их стригут, холят и расчесывают каждый на свой лад. Опять давали валериановый корень: на этот раз он не помог. Ставили пиявки — они не присосались. Меня обтирали, прослушивали, всего разрисовали иодом, спалили горчичниками. Не додумались только кропить святой водой и заговаривать. Антоньито Бругада мечется по спальне; этот парнишка (для меня — все еще парнишка, хотя он уже в возрасте) очень недурно пишет марины. Пока я еще различал лица, видел: глаза и нос у него красные, верно от слез. Он наклоняется над постелью и разглядывает меня в фас, в профиль, в три четверти. Как бы он ни горевал — а думаю, горюет он всем сердцем, — художник берет в нем верх, и он уже готовится рисовать меня, мертвого, хотя, возможно, сам не осознает своего намерения.
Хосе Пио де Молина — высокий, грустный и хилый, словно чиновник Святой инквизиции. Он — самый свободолюбивый и самый щедрый из всех, кого я знал, хотя близко познакомился с ним только на чужбине. Незаконченным останется его портрет, который я начал уже больным. Пока он мне позировал, я рассказал ему кое-что из последнего разговора с Желанным. («Когда вы возвратились из Валансе, вы были Желанным, единственным и неповторимым. Думаю, не было на свете человека, которого бы ждали так, как вас. Помните, как чернь рыдала и целовала вам руки на дороге к источнику Святого Исидро? Тогда вы могли все начать с нуля и стать по-настоящему королем для всех нас. Наш народ — скопище лютых зверей и дураков, который не найдет себя, пока не поймет собственной жестокости и глупости, — во имя того, чтобы преодолеть их. И вам, сеньор, следовало помочь народу в этом, такого случая больше не повторится».) «Грустно, что народу приходится ждать чьей-то смерти, чтобы найти свое будущее, — сказал Пио де Молина, — потому что мертвые только хоронят мертвых. Сам Христос утверждал, что ни на что другое они не годятся». Я спросил, не думает ли он, что у нас вообще нет будущего и что спустя столетие, а может, и полтора двое испанцев, такие же, как и мы, изгнанники, в Бордо, повторят наши сомнения и наши слова. «Вполне может случиться, — ответил он, прикрывая узкие, как у чиновника инквизиции, глаза, — потому что судьба наша кажется не настоящей, а написанной каким-нибудь сумасшедшим писателем, и оттого здесь из века в век повторяется одно и то же».
Да, вот бы сказать им: еще немного, и я окажусь в обществе Веласкеса. Когда я был совсем юным, задолго до того, как Его величество Дон Карлос III, принц и принцесса Астурийские дали мне аудиенцию по просьбе моего шурина Байеу-старшего, этот самый шурин повел меня во дворец показать картины Веласкеса из королевского собрания. Франсиско Байеу тогда уже был придворным живописцем, и гордыня не позволяла ему хвалить кого бы то ни было в моем присутствии. И потому я страшно удивился, когда он сказал: «Сегодня ты увидишь картины человека, к которому я не знаю зависти, как не могу завидовать богу за то, что он создал свет и воздух». Но Веласкес создал не воздух и не свет — он создал человека. Человек стал у него бесспорным центром мироздания, в котором небеса порою превращались в шпалеры, а порою — в зеркала. Перед его картинами, несмотря на наполнившее их чувство покоя, меня вдруг будто по сердцу ударило. Будь я один, я бы расплакался, только присутствие Франсиско Байеу удержало. «Этот человек был шутом и писарем при дворе Филиппа IV. Звали его что-то вроде Диего де Аседо-и-Веласкес, но все называли Двоюродным братцем — в насмешку за внешнее сходство, которое у него якобы было с художником», — рассказывал мне шурин перед портретом сидящего карлика; на ногах у карлика лежала огромная книга, а вокруг — натюрморт из тетрадей, бумаг, гусиных перьев и чернильниц. «Обрати внимание на нарочитую диспропорцию; какие крошечные руки и как огромна страница — во всю длину коротеньких ножек. И как велика голова по сравнению с туловищем, а еще больше кажется оттого, что на ней черная шляпа». Тут же на стене, рядом с портретом того шута, висел портрет другого: тот сидел на полу и смотрел нам прямо в лицо. На переднем плане — подошвы крошечных башмаков, такие чистые, будто он первый раз надел их. «Имя этого известно, знаем мы о нем и еще кое-что, — продолжал шурин. — Это Себастьян де Морра, шут принца Дона Бальтасара Карлоса. Рассказывают, что однажды королева послала придворную даму купить конфет, а кондитер отказал ей, потому что во дворце давно уже брали в долг, а по счетам не платили. Когда камеристка в слезах возвращалась из лавки, навстречу ей попался этот шут, и он дал реал, чтобы государыня не лишилась десерта. Посмотри, как малы у него руки и ноги по сравнению с головой, какой непомерно большой лоб, а туловище — грузного человека». Глаза шутов привели меня в восторг. Такое впечатление, будто Веласкес начинал картину с глаз и вначале писал их посреди пустого холста, будто именно глаза были центром и сосредотачивали в себе суть этих неправдоподобных существ. Долгий, влажный взгляд этих глаз был обращен внутрь и делал такими человечными эти существа, рожденные и выдрессированные на потеху другим, как дрессировали и приручали при дворе собак и мартышек. Когда много-много лет спустя Желанный заговорил со мной о народе, таком же уродливом и безобразно-потешном, как эти несчастные, я думал об их глазах, о глазах веласкесовских шутов, и спрашивал себя: удалось ли им одолеть долгий путь к самим себе и найти истинный смысл жизни и настоящую свободу?
Читать дальше
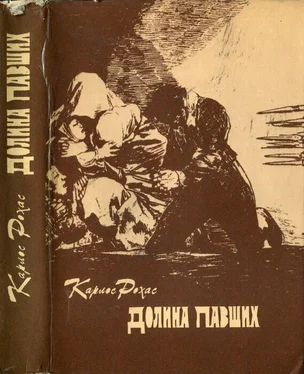






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)