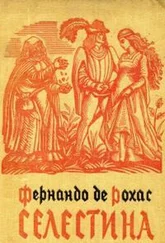— И все-таки вы их простили.
— Тот же самый народ оказывал нам почет в Мадриде, когда нас освободили войска герцога Ангулемского. В те дни я мог ходить по улицам один и без оружия, и люди готовы были драться за то, чтобы целовать мне ноги. В храмах выставляли мое гипсовое изображение в мантии, взятой из театральной костюмерной. Я простил народ по той же самой причине, по какой еще раньше простил тебя за предательство, за то, что ты якшался с королем-самозванцем. По той же самой причине, по какой и себе всегда прощаю предательство. Ты, я, народ — мы совершенно одинаковые. В этом мире-сне одни мы — настоящие. Ради спасения жизни готовы расстаться со всем — и с честью и с душою, потому что в глубине этой самой души уверены: нет ничего настоящего — во всяком случае, на земле, — кроме нас самих… Не знаю, понял ли ты, что я хотел сказать.
— Очень хорошо понял, сеньор. Но я помню, и как вы мстили.
— Народ мстил: казни вершились публично и всемерно одобрялись. Бунтовщиков я никогда не жалел, настоящих бунтовщиков — не тех, кто защищал собственную жизнь, а всякие химеры вроде свободы или прав человека. Вместе с Торрихосом [115] Хосе Мариа де Торрихос (1791–1831) — либерал, принадлежавший к партии «восторженных», во время войны за независимость — маршал; в период нашествия «ста тысяч сыновей святого Людовика» возглавлял защиту Картахены. Впоследствии эмигрировал в Лондон. В 1830 г. высадился с отрядом на полуострове, намереваясь возглавить мятеж. Без суда был казнен по личному приказу Фернандо VII.
и его людьми взяли двенадцатилетнего мальчишку, он был у заговорщиков посыльным. Помню, когда ворвались во дворец и заставляли принять конституцию, мне показали другого парнишку и орали, что это — сын генерала Ласи, которого я когда-то велел расстрелять. Так вот, я собственной рукой написал приказ о казни Торрихоса и его банды. А внизу приписал: «Мальчишку тоже казнить». Тебя это шокирует, старина?
— Нет, сеньор, не шокирует, но я бы предпочел быть виновным в смерти собственных детей, а не того — чужого.
— О вкусах не спорят, друг мой. — Он улыбнулся и снова откинулся в кресле. Мокрым пальцем стал водить по краю бокала, еще и еще, с удовольствием думая о чем-то своем, пока стекло не завизжало пронзительно, точно наваха на точильном камне.
— Сеньор, ради бога!
— Ах, прости, я думал, ты ничего не слышишь.
— Этот визг — слышу. И еще — раскаты грома, если грохочет близко.
— А мне во сне слышатся голоса императора и матери, как они в замке Марак заставляли меня отречься от короны. Лиц не вижу, только слышу голоса, да так близко, будто этот адский день воротился. Vous êtes très bête y très, très mechant! [116] Вы просто скотина и страшный, страшный подлец ( франц. ).
— рычал бандит, а мать визжала по-испански «Ублюдок! Ублюдок!» — Он улыбнулся и помотал головой, будто хотел прогнать отвратительные воспоминания. — В тот раз, как никогда, я боялся за собственную жизнь, больше даже, чем на дороге из Севильи в Кадис. Но и вне себя от страха, заметил: и мать, и Наполеон были не только страшны, но и смехотворны. Оба говорили на чужом для них языке, и от злости — с вульгарным итальянским акцентом.
— Вашему величеству следовало тогда любыми способами воспротивиться грабежу. В Мадриде кровь уже пролилась, и нельзя сказать, чтобы вы, сеньор, к тому восстанию были совершенно непричастны. А вы отказывались от трона в то время, как люди умирали или падали под пулями с вашим именем на устах.
— Если б я не отрекся в Мараке, меня бы убили. История держится на том, что забывает напрасно пролитую кровь. А результат все равно был бы один, только вместо меня на престоле сидел бы мой брат. Но при нем восстановили бы Святую инквизицию и ты не жил бы в изгнании, а гнил за решеткой, потому что вместе с инквизицией вернули бы и аутодафе; костры пылали бы вовсю. Мой брат — фанатик. А я — всего-навсего напуганный человек.
— Что ваш страх оставит нам в наследство?
— Музей; я открою в Прадо музей. — Он вдруг оживился и похлопал меня по колену. — Музей тебе на славу, отдам туда картины из королевского дворца!
— Завтра люди забудут, что вы основали музей, но ваши предательства и виселицу на Ячменном рынке будут помнить вечно. Моратин во Франции привел мне как-то слова Шекспира — вы не имеете права не знать этих слов. Зло, сотворенное людьми, переживает их. Добро же уходит с ними в могилу. Такова участь любой власти; но ваша могла быть иной…
— Почему моя могла быть иной?
Читать дальше
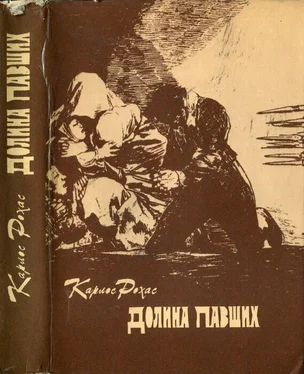






![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)