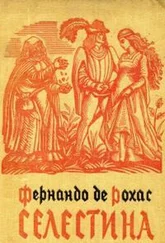(«Мною написанные картины ожили и двинулись, точно быстротечная история — история моего времени».) И когда все мои персонажи, включая автопортреты, на которых я, повторяясь, старею, и все наброски, и все рисунки собрались вокруг хоровода из «Игры в жмурки», тени вдруг задрожали и рассеялись во мраке. А в темном аквариуме, трех пядей величиной, оживает черная живопись, поначалу мне совсем незнакомая. Постепенно я начинаю узнавать Мадрид, но совсем другой, не тот, что знаю и держу в памяти. В ночи, ибо это глухой предрассветный час, я различаю площадь и дворец Орьенте. На площади разбит парк, помню, во время войны король-самозванец выровнял площадь перед дворцом, снес дома и расчистил улицы, чтобы при любом бунте, вроде того, например, что вспыхнул в мае, площадь хорошо простреливалась. Однако сам город поднялся выше деревьев. Высокие-превысокие дома, будто приснившиеся сумасшедшему зодчему, точно гигантская изгородь из ульев, упираются в небо. Гроздья фонарей, светящиеся меж безлистых ветвей, превращают глухую ночь в белый день.
Нескончаемая очередь стоящих в три и даже в четыре ряда людей тянется через площадь и теряется в далекой дали. Железные переносные решетки с одной стороны огораживают, сдерживают эту бесконечную змеящуюся вереницу людей, ожидающих своей очереди войти во дворец Орьенте. Мужчины и женщины в невиданных нарядах, как будто весь Мадрид, превратившийся в гигантский улей, вырядился в неведомые, но одинаковые маскарадные костюмы. Одетые в странные накидки с рукавами, люди дрожат от холода, жмутся друг к другу и растирают окоченевшие руки, похлопывая себя по рукам и плечам и разговаривая, выдыхают облачка пара, которые застывают на лету. Я не очень удивляюсь, когда вдруг начинаю слышать то, что они говорят, так ясно, будто никогда не был глухим. «Для всей страны он был отцом родным, — говорит какой-то старик. — Всю ночь стою, ни минуты не спал, и не уйду, пока не увижу, как он лежит там, во дворце». — «Говорят, некоторые священнослужители благословляли тело, проходя мимо гроба. А были и такие, что глянут — и перекрестятся. Некоторые падали на колени у изножья». — «Мы — цыгане из Посо-дель-Тио-Раймундо. К нам он относился по-доброму». — «Как вы думаете, дадут мне поцеловать его, когда я подъеду?»— то и дело повторяет старуха.
Они мне — не в диковинку. Это те самые, что восторженными толпами приветствовали Годоя, Желанного, короля-самозванца, Риего, Эмпесинадо. И они же, пыряя ножами, волокли Годоя в Аранхуэсе; они притащили на эшафот Риего на угольной повозке, а потом забрасывали камнями его мертвое тело, разрубленное топорами и выставленное на позор в двадцати городах; они шилом и навахой вспарывали живот Эмпесинадо, когда его, закованного, возили в клетке, и плясали от удовольствия, в то время как палач сжигал его останки; они ворвались в этот самый дворец Орьенте с веревками, собираясь вешать Желанного, а когда тот ехал в Кадис, они заставляли его прижиматься к окошку кареты, чтобы плевать ему в глаза. Я узнаю их, как узнал бы любой художник, узнаю их лица, и этот взгляд, так похожий на взгляд шутов и карликов, которых рисовал Веласкес. Я видел их в церковных процессиях и на гуляньях в день святого Исидро, в церквах, на бое быков, на распродажах, постоялых дворах, в трактирах, на свадьбах, пирушках, в публичных домах и тюрьмах. Слышал, как они славили инквизицию, цепи, свободу, конституцию, королевскую власть, веру, революцию, смерть, тюрьмы, Родину, измену, месть, милосердие, невежество, абсолютизм, отвагу, боевых быков и церковное вино. Нет, они восторженно рукоплескали не только Принцу Мира, Фернандо VII, Рафаэлю Риего и Хуану Мартину Эмпесинадо, но еще и Костильяресу, Педро Ромеро, Хосе Ромеро, Жозефу Бонапарту, Мюрату, герцогу Ангулемскому, англичанам и всем «ста тысячам сыновей святого Людовика». А сейчас они скопом двинулись во дворец Орьенте, прощаться с покойником, которого ни один из них, наверное, и живьем-то не видал. Но, по сути дела, они идут не во дворец, они идут никуда, ибо, как я всегда говорю, думая о них, люди не знают дороги и не ведают, кто они.


Желанный родился в Эскориале 14 октября 1784 года. Согласно документу, хранящемуся в Национальном историческом архиве, в возрасте четырех лет он перенес тяжелую болезнь, причиной которой был дефект, заключенный в крови. Мариано Оливарес, придворный хирург дворца Ла-Гранха, что в Сан-Ильдефонсо, предложил лечить его настоем лекарственных трав, лично им изобретенным, чьи целебные качества удостоверяли другие пациенты, этим питьем излеченные. В конце концов выздоровление его было приписано чудодейственному вмешательству святого Исидро-Землепашца.
Читать дальше
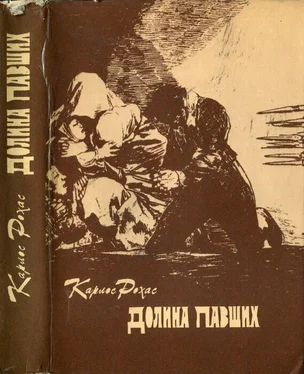








![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)