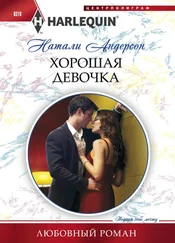На крыльце лавки показывается фигура мужчины. Он поднял руку.
— Хлеб будет только к вечеру. Расходитесь и не шумите. С пекарни сообщили…
Дальше не понятно, что поднимается. Я прижимаюсь к отцу, чтоб не быть раздавленной.
Самуил с трудом вытаскивает тетю Дуню с ребенком из толпы.
— Тише, граждане! Вы же сознательные…
— А ты сознательный? Шкура, спекулянт! Сам нажрался! Сейчас пойдем в Совет, мы их там растерзаем!
Человек на крыльце отдувается и кричит тоненьким визгливым голосом:
— Граждане! Вы потеряете очередь. Моей вины тут нет.
— Мы стоим пять часов. Почему молчал?
— Граждане, я, как советский торгаш, должен быть вежливым. Не принуждайте меня спихивать вас с крыльца. Я прошу вас, будьте любезны, идите к черту!
В конце концов ему удалось войти в лавку и запереться. Весь свой голодный гнев толпа обращает к Советам.
— Пойдемте, бабоньки. Засели, зажрались! Голодом морят. Раздерем их.
Отец очень вспыльчив. И когда сердится — может оглушительно закричать. Дома мы уже давно не слышим его самой высокой ноты. Но тут он вдруг как закричит:
— Ша! Чего туда идти?
Шум обрывается. Никто не понимает, кто это крикнул.
— А в управу вы тоже ходили, вот так просто, когда вам плохо было? Или вам всем хорошо было при царе?
Не так слова отца, как его сгорбленный вид, потертое пальто и изнуренное лицо как бы заставляют группу разъяренных женщин на мгновение остановиться. И тут же с новой силой раздаются крики:
— Да у него там сын в Совете, так защищает.
— Чего его слушать. Верно, сын…
— Мой сын, — гремит отец, — чуть голову не сложил за то, чтоб не было царя. Лежит в военной больнице. И семья моя тоже голодает. Дочка моя, Соня, — учительница.
Но голос отца сорвался, и он начинает кашлять. Да так тяжело, что наклоняется прямо к земле.
Я тащу отца из толпы. Нам дают дорогу. Женщины смотрят нам вслед.
— Надо тебе ввязываться, — плачу я. — Стыдно прямо.
Через несколько дней отец приходит с работы очень веселый.
— Я сегодня выступал на собрании, — гордо говорит он Соне.
Соня улыбается.
— Ну, давай расскажи… — поощряет она его.
— Наш бухгалтер не принес получку. Мы спрашиваем, почему. Так он нам отвечает: не управился с бумагами.
— Так что ты об этом сказал? Может быть, он, правда, не успел.
— Ты меня считаешь прежним… Не думай… Я часто его вижу пьяным. Как теперь люди берутся пьянствовать? А за столом сидит и дремлет. Я взял да выступил. Я говорю так: «Если инженер сидит и думает, так, может, он что-нибудь выдумывает, а если бухгалтер сидит часами и думает, так я думаю, что он ничего не делает».
Соня заливается, хохочет. Но отец вдруг мрачнеет.
— Как ты думаешь, не турнут меня за это из мастерской?
— Нет, грей их там в хвост и гриву. Не бойся!
— Чего мне бояться? Слава богу, за свой век набоялся. Пристава боялся, Деревянко боялся. Думал, что без Деревянко не проживу. Теперь — хватит.
Только отец начинает собираться в синагогу, приезжает фельдшер. Слушает маму и что-то долго говорит с папой и Соней.
Отец остается дома. И разворачивает букварь. Соня с заплаканным лицом держит маму за руку. Мама лежит такая высохшая, что едва заметна под одеялом.
Мама умирает на рассвете. Всю ночь ее бессвязный крик держал нас возле нее.
В пасмурный осенний день у нашего дома стеной стоят люди. Откуда столько людей знали маму? Соня поехала за Абрамом в Луганск. Его пора выписывать. Крик отца и сестер не дает мне думать об Абраме. Его привозят ночью. В моей опустошенной душе что-то переворачивается. Я бросаюсь к нему. Мы сидим с ним около мамы. Он долго молчит, прижимая меня к себе и, поглаживая неподвижную руку мамы, тихо произносит:
— Мамочка! Хоть бы капельку радости ты видела от меня! Какая будет жизнь, а ты не дожила!
Рыдая, Соня что-то говорит ему об опухоли. Он не слушает ее и гладит, гладит мамину руку. И тут я впервые чувствую, что мне не хватает воздуха. Я глубоко и безнадежно плачу.
Как жить без мамы? Раньше я думала, что очень нужна маме. Всегда она меня ищет, зовет, сердится, когда задерживаюсь. Теперь я начинаю постигать другое.
Долго я еще не верю, что мамы нет. Один раз я играю на пустыре; Левко зовет тетя Дуня. А меня? Почему меня не зовут? И я тоже бегу домой. Стоит только открыть дверь в кухню — и все окажется по-прежнему. Я стою перед дверью. Открыть оказывается страшно. А вдруг ее нет? Действительно пусто. Даже маминой кровати в кухне нет.
Понурив голову, я бреду обратно на улицу. Сирота… Слово какое… Как полынь…
Читать дальше