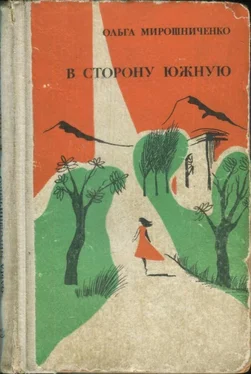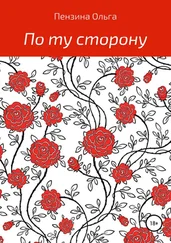— Здравствуйте, — нараспев сказал нежный, слабый голос.
В проходе стоял худой невысокий мужчина. Улыбался робко, неуверенно, видно понял, что не узнает.
— Я Игнатенко, не помните? Вы до мэнэ в теплицу приходыли с дитьми своими.
— Здравствуйте, ну как же, как же, конечно, помню. Я так рада, так рада, что это вы. Как хорошо, что мы встретились, что же вы стоите? — спохватилась, словно не в замызганном салоне катерка повстречала малознакомого человека, а в доме своем дорогого гостя принимала.
Он совсем растерялся от непонятной, бурной ее приветливости, осторожно присел на краешек дивана через проход, смотрел удивленно.
— А я вас видел на почте, — сообщил, как о необыкновенном, — да подойти постеснялся, вы с подружкой были, я ее, правда, тоже немного знаю, но… — пожал плечами смущенно.
Был он в новеньком, переливчато-блестящем японском костюме из шелковистой немнущейся ткани и расшитой крестиком украинской полотняной сорочке с цветным шнурком-завязкой. Узорный край широких и длинных рукавов сорочки густой оборкой топорщился из-под узких обшлагов, вызывая в памяти детские воспоминания о клоунах. Только не о веселых, хитрых и разбитных, а о тех печальных, нелепых и неумелых, которых пинают веселые. Он и впрямь считался в поселке чудаком. И хотя был неплохим бульдозеристом, не уживался нигде. Отовсюду прогоняли, из Мирного, с Айхала, из Счастливого, чтоб людей не будоражил, не отвлекал от дела. Но с упорной, тихой настойчивостью фанатика Игнатенко, где бы ни оказался, начинал строить парник. Вместе с костлявой могучей старухой, своей матерью, на мотоцикле привозил немыслимо редкий, неизвестно где обнаруженный им чернозем. Так же непонятно раздобывал дефицитное дерево, железные конструкции, стекло и пленку. В Счастливом, по слухам, даже ксеноновой лампой разжился, а лампы эти наперечет на стройках, каждую в Москве выбивать надо. А вот у Игнатенко своя была. И ничто от пагубной страсти упорного хохла отвратить не могло: ни ненависть начальства, ни визиты ОБХСС. Два раза отсутствующие накладные личными сбережениями покрывал, два раза уходил от суда, — и было б за что? Хоть бы помидоры, огурцы для собственных нужд, на продажу разводил, так нет — бессмысленные злаки, цветы и травы. Поля и луга в ящиках деревянных.
Галина слышала о существовании Игнатенко от Раисы. Но странно: рассказывая о нем, Раиса ни разу не назвала чудака, владельца микроскопических полей и лугов, как будто самым подходящим, своим излюбленным презрительным прозвищем «никому не нужный». И придурком называла, и чокнутым, и упрямой Хохляндией, а вот «никому не нужным» — никогда. Галина редко его встречала, работал в тайге на ЛЭП, по поселку шмыгал торопливо, на собраниях в заднем ряду сидел.
По тому, как охотно рассказывала о нем Раиса, как знала все подробности биографии, поняла — нравится ей Игнатенко. И особенно отчетливо поняла по той яростной ненависти, которая вспыхнула в Раисе к Кирюхиной, когда по поселку прошел слух, что продавщица сошлась с Игнатенко.
Как-то сцепились в магазине.
— Ты не спеши, подожди, пускай весы остановятся, — сказала Раиса нарочно громко, чтоб все в очереди услышали.
— Боишься, что пятью граммами колбасы твоей разживусь? — насмешливо осведомилась Кирюхина и совершила ошибку. Раисе только того и нужно было, чтоб придуманное заранее, за чем и шла в магазин, сказать:
— Боюсь. Такие, как ты, и в траве пользу свою корыстную отыщут.
В очереди засмеялись, оценили тонкий намек, а Кирюхина так шмякнула твердой палкой сырокопченой о прилавок, что с грохотом рассыпалась затейливая пирамида сгущенки за стеклом.
Недолгим оказался роман, как и предрекала Раиса, но ненависть ее прикипела к Кирюхиной прочно, так прочно, что не стала Галина рассказывать подруге, как и почему расстались эти двое, хотя знала. Случайной свидетельницей оказалась.
— Хотите, я вас сфотографирую? — Игнатенко с готовностью сдернул с плеча дерматиновый ремешок дешевого фотоаппарата.
— Здесь же темно.
— А мы на палубу выйдем.
Когда поднималась вслед за ним по крутой лесенке, подумала, что кажется ей отчего-то Игнатенко увечным. И хотя был он красив даже — карими ласковыми глазами под сросшимися пушком на переносице шелковистыми черными бровями, впалыми щеками с нежным немужским румянцем, но в суетливости движений, в узкой спине проглядывало что-то жалкое, привычно испуганное.
Галина не любила и не умела фотографироваться. Стояла, прислонившись к перилам, и растерянно смотрела на приготовления Игнатенко. Его невысокая щуплая фигура с выпяченной грудью, высоко приподнятыми и отведенными назад плечами, привычка прижимать к бокам локти, хлопотливо возясь с объективом и экспонометром, мелкие, вздрагивающие шажки напомнили ей вдруг тех цыплят-подростков, что, неуверенные в своем праве на существование, уже лишенные опеки квочки, шмыгали торопливо под лопухами на их дворе в деревне.
Читать дальше