– Да я никогда не боялся. Ты просто позабыл, дома-то все шушукаются. Вдобавок мы отступаем. Почти что драпаем. Через каждые сто километров тон становится чуть свободнее. – Иммерман принялся счищать с формы грязь. – Мюллер погиб. Майнеке и Шрёдер в лазарете. Мюкке получил ранение в живот. Говорят, в Варшаве отдал концы. Кто еще был из стариков? Ну да, Бернинг… он потерял правую ногу. Истек кровью.
– Что поделывает Штайнбреннер?
– Жив-здоров. А что?
– Да так…
Он повстречал его после ужина. С виду – загорелый готический ангел.
– Как настроение на родине? – спросил Штайнбреннер.
Гребер поставил котелок.
– Когда подъехали к границе, – сказал он, – нас всех собрал эсэсовский капитан и предупредил, чтобы мы ни слова не говорили о положении на родине, иначе нас ждет самое суровое наказание.
Штайнбреннер рассмеялся:
– Уж мне-то можешь спокойно рассказать.
– Нашел дурака. Самое суровое наказание – это расстрел за подрыв боевого духа армии.
Штайнбреннер перестал смеяться.
– Ты говоришь так, будто рассказать можно бог весть что. Будто там сплошные катастрофы!
– Я вообще ничего не говорю. Только повторяю, что сказал эсэсовский капитан.
Штайнбреннер смерил Гребера испытующим взглядом:
– Ты женился, да?
– Откуда ты знаешь?
– Я все знаю.
– В канцелярии сказали. Так что не задавайся. Ты ведь частенько торчишь в канцелярии, а?
– Когда надо, тогда и торчу. Как поеду в отпуск, тоже женюсь.
– Да? Уже знаешь, на ком?
– На дочке обер-штурмбаннфюрера из нашего города.
– Ну конечно.
Штайнбреннер пропустил иронию мимо ушей.
– Кровь первоклассная, – деловито продолжал он. – Нордическо-фризская с моей стороны, рейнско-нижнесаксонская с ее.
Гребер смотрел в алеющий русский вечер. Несколько ворон темными лоскутьями метались в вышине.
Штайнбреннер, насвистывая, пошел прочь. Гребер опять прилег. Вдали рокотал фронт. Вороны улетели. Ему вдруг показалось, что он никуда не уезжал.
С полуночи до двух Гребер был в карауле, обходил дозором деревню. Черные силуэты развалин на фоне фронтового фейерверка. Небо дрожало, то светлело, то темнело от дульного пламени орудий. Сапоги, точно про́клятые души, стонали в вязкой глине.
Боль нагрянула резко и нежданно, без предупреждения. Пока ехал сюда, он уже ни о чем не думал, как бы отупел. Теперь, внезапно, без всякого перехода, боль пронзила его, словно кромсая на куски.
Он остановился, стал ждать. Не шевелясь. Ждал, что ножи начнут поворачиваться, станут мукой, обретут имена, а вместе с именами место и тогда станут доступны для разума и утешения или хотя бы для фаталистического приятия.
Увы. Ничего, кроме ясной боли утраты. Утраты навсегда. Мостика нигде нет. Все было, но потерялось. Он вслушивался в себя. Где-то еще должен быть голос, где-то наверняка еще блуждает отзвук надежды. Ничего. Лишь пустота и безымянная боль.
Слишком рано, подумал он. Все вернется, позднее, когда боль уйдет. Попытался призвать воспоминания, не хотел их упускать, хотел сберечь, пусть даже боль станет нестерпимой. Все вернется, если я выдержу, думал он. Называл имена, пытался вспомнить. В тумане возникло горестное лицо Элизабет. Каким он видел его напоследок. Все прочие ее лица растаяли, одно это стало отчетливым. Он попробовал представить себе сад и дом госпожи Витте. Сумел, но так, будто играл на фортепиано, а звуков не слышал. Что произошло? – думал он. Вдруг с ней что-то случилось. Вдруг она без сознания. Вдруг как раз сейчас дом рухнул. Вдруг она погибла.
Гребер выдернул сапоги из глины. Она чавкнула. Он чувствовал, что взмок от пота.
– Устанешь этак-то, – сказал кто-то.
В углу разбитого коровника стоял Зауэр.
– Вдобавок слыхать за километр. Чего это ты делаешь? Гимнастикой занимаешься?
– Ты ведь женат, Зауэр, да?
– Понятное дело. Когда у тебя усадьба, надо быть женатым. Без жены в хозяйстве никуда.
– Давно ты женат?
– Пятнадцать лет. А что?
– И каково быть женатым так долго?
– Ну и вопросики у тебя, браток! «Каково»!
– Это вроде как якорь, который тебя держит? Что-то, о чем ты постоянно думаешь и куда хочешь вернуться?
– Якорь… что значит якорь? Конечно, я думаю об этом. Нынче вот цельный день. Весна, пора сеять да сажать! Тут уж голова вовсе кругом идет.
– Я не про хозяйство. Я про твою жену.
– Так это одно и то же. Я ж тебе объяснил. Без жены в хозяйстве не обойтись. Да только тут из-за этого одни заботы. Вдобавок Иммерман бесперечь талдычит, военнопленные, мол, норовят прилечь под бочок к каждой бабе, которая одна кукует. – Зауэр шмыгнул носом и по какой-то загадочной причине добавил: – Кровать-то у нас большая, двухспальная.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


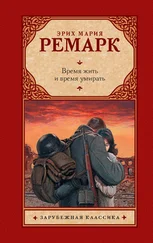
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

