– Эшелон отходит в шесть, – сказал он. – Все свои дела я закончил. Пора идти. Не провожай меня. Я хочу уйти отсюда и унести с собой вот это… как ты живешь здесь, а не толчею и смущение на вокзале. Последний раз меня провожала мама. Я ничего не смог поделать. Это было ужасно и для нее, и для меня. Я не сразу взял себя в руки и позднее вспоминал только одно – плачущую, усталую, потную женщину на платформе, а не маму, какой она была на самом деле. Понимаешь?
– Да.
– Хорошо. Тогда давай так и поступим. Ты тоже не увидишь меня там, где я опять стану не более чем одним из многих, просто солдатом, нагруженным как осел. Я хочу уйти от тебя таким, какие мы здесь и сейчас. А теперь возьми деньги, я кое-что приберег. На фронте они не нужны.
– Не надо мне денег. Я достаточно зарабатываю.
– На фронте их некуда тратить. Возьми, купи себе платье. Бессмысленное, ненужное, красивое платье к твоей золотой шапочке.
– На них я буду слать тебе посылки.
– Не надо посылок. У нас там с питанием лучше, чем у вас здесь. Купи платье. Я кое-что понял, когда ты покупала шляпку. Обещай, что купишь платье. Совершенно ненужное, непрактичное. Или этих денег мало?
– Хватит. Еще останется на пару туфель.
– Отлично. Купи себе золотые туфельки.
– Ладно, – сказала Элизабет. – Золотые туфельки на высоком каблуке, легкие, как перышко. Побегу в них тебе навстречу, когда ты вернешься.
Гребер достал из ранца темную икону, которую привез для матери.
– Вот это я нашел в России. Пусть останется у тебя.
– Нет, Эрнст. Подари кому-нибудь еще. Или возьми опять с собой. Это… слишком окончательно. Забери ее.
Он посмотрел на икону.
– Я нашел ее в разрушенном доме. Возможно, она не приносит счастья. Я никогда об этом не задумывался.
Он опять сунул икону в ранец. Это был святой Николай на золотом фоне, с сонмом ангелов.
– Если хочешь, я отнесу ее в церковь, – сказала Элизабет. – Туда, где мы ночевали. К святой Екатерине.
Туда, где мы ночевали, подумал он. Еще вчера это было близко, сегодня – уже бесконечно далеко.
– Они не возьмут. Другая религия. Служители Бога любви не особенно терпимы.
Он подумал, что мог бы положить этот образ вместе с прахом Крузе в могилу каноника Блюмера. Но, пожалуй, совершил бы только излишнее святотатство.
Гребер не оглядывался. Шагал не слишком медленно и не слишком быстро. Ранец тяжелый, а улица очень длинная. Свернув за угол, он разом свернул за великое множество углов. Секунду еще чувствовался запах волос Элизабет, и вот он уже растворился в застарелом запахе гари, вечерней духоте и сладковато-гнилостном смраде тлена, который с наступлением теплой погоды поднимался из развалин.
Он шел по берегу реки. С одной стороны липовая аллея сгорела дочерна, другая сторона зеленела. Забитая сором река медленно обтекала кучи штукатурки и соломы, мешки, обломки перил и кроватей. Вдруг сейчас начнется налет, думал он. Мне придется отсиживаться в укрытии, и будет причина опоздать на эшелон. Что бы сказала Элизабет, если б я неожиданно вновь очутился перед ней? Он задумался. Нет, неизвестно. Но все, что сейчас было хорошего, вероятно, обернется болью. Как на вокзале, когда поезд отходит с опозданием и остаются еще полчаса, которые поневоле надо заполнить смущенным разговором. Вдобавок ничего не выиграешь: при налете эшелон не уйдет, будет ждать, и он наверняка успеет к отправлению.
Гребер вышел на Брамшештрассе. Отсюда он начинал путь в город. Тот же автобус, что привез его тогда, стоял в ожидании пассажиров. Он залез внутрь. Через десять минут машина отправилась. Вокзал снова перенесли в другое место. Теперь это был навес из гофрированного железа, из-за налетов выкрашенный в камуфляжные цвета. По одну сторону натянуты серые брезентовые полотнища, рядом для маскировки вкопаны искусственные деревья и построен хлев, откуда выглядывала деревянная корова. На лужайке паслись две старые клячи.
Эшелон уже стоял под пара́ми. На нескольких вагонах таблички: «Только для военных». Часовой проверял документы. И ни слова не сказал о том, что Гребер опоздал на день. Он поднялся в вагон, нашел место у окна. Немного погодя подошли еще трое – унтер-офицер, ефрейтор со шрамом и артиллерист, который тотчас же принялся за еду. На платформу вывезли полевую кухню. Обслуживали ее две молодые девицы и женщина постарше, с жестяной свастикой, приколотой на груди вместо броши.
– Кофе, – сказал унтер-офицер. – Надо же!
– Не для нас, – отозвался ефрейтор. – Для новобранцев, которые первый раз едут на фронт. Я давеча слыхал. Им еще и речь скажут. Перед нами уже не выступают.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


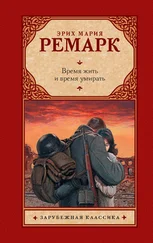
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

