– Они не прилетали, Элизабет, – сказал он.
– Прилетали, – пробормотала она.
Лежа рядом с нею, Гребер видел одеяло на полу, и зеркало, и открытое окно. Он думал, ночь никогда не кончится, но теперь ощутил, как время исподволь снова вливается в тишину. Побеги за окном снова покачивались на ветру, их тени трепетали в зеркале, издалека снова долетал шум. Он посмотрел на Элизабет. Глаза закрыты. Рот чуть приоткрыт, и дышала она глубоко и спокойно. Не вернулась еще. А он вернулся. И снова думал. Она все больше отдалялась. Вот бы и мне так, думал он, затеряться, целиком и надолго. В этом он ей завидовал, за это любил и слегка этого пугался. Она была в каком-то месте, куда он не мог последовать за ней или мог, но ненадолго, вероятно, это его и пугало. Он вдруг почувствовал себя одиноким и странно слабым.
Элизабет открыла глаза.
– Куда девались самолеты?
– Не знаю.
Она отвела волосы назад.
– Я проголодалась.
– Я тоже. Разносолов у нас хоть завались. – Гребер поднялся, достал консервы, принесенные из биндинговского погреба. – Вот курица и телятина, вот даже кусочек зайчатины, а вдобавок компот.
– Давай зайчатину и компот.
Гребер откупорил банки. Ему нравилось, что Элизабет не помогает, а лежит и ждет. Он терпеть не мог женщин, которые, еще обвеянные тайной и темнотой, вмиг превращались в деловитых домохозяек.
– Мне каждый раз стыдно из-за всех этих Альфонсовых вкусностей, – сказал он. – Я не очень-то хорошо с ним обходился.
– Зато он наверняка плохо обходился с кем-то еще. Одно уравновешивает другое. Ты ходил на его похороны?
– Нет. Там было слишком много партийцев в мундирах. Я не пошел с ними на кладбище. Выслушал только речь обер-штурмбаннфюрера Хильдебрандта. Он сказал, мы все должны брать пример с Альфонса и исполнить его последнюю волю. Обер-штурмбаннфюрер имел в виду беспощадную борьбу с врагом. Но последняя воля Биндинга была не такова. В подвале Альфонс был в пижаме, вместе с блондинкой в ночной рубашке.
Гребер вытряхнул мясо и компот в две миски, которые им дала госпожа Витте. Потом порезал хлеб и открыл бутылку вина. Элизабет встала. Замерла нагишом возле ореховой кровати.
– Ты вправду не похожа на женщину, которая, согнувшись в три погибели, месяцами шьет шинели, – сказал Гребер. – Так и кажется, будто ты каждый день занимаешься гимнастикой.
– Гимнастикой? Гимнастику делают только в отчаянии.
– Правда? Никогда бы не подумал.
– Именно так, – сказала Элизабет. – Гимнастика, пока уже не в силах нагнуться, бег, пока не устанешь до смерти, десять раз сделать уборку в комнате, расчесывать волосы, пока голова не заболит, и прочее, и прочее.
– Помогает?
– Только в предпоследнем отчаянии. Когда больше не хочешь думать. В последнем вообще ничего не помогает, остается только упасть.
– А потом?
– Ждать, когда жизнь прихлынет снова. Я имею в виду ту жизнь, что заставляет дышать. А не ту, что заставляет жить.
Гребер поднял стакан.
– По-моему, для своих лет мы слишком много знаем об отчаянии. Давай забудем о нем.
– Мы и о забвении слишком много знаем, – сказала Элизабет. – Давай и о нем забудем.
– Ладно. Да здравствует госпожа Кляйнерт, которая законсервировала этого зайца.
– И да здравствует госпожа Витте, которая подарила нам этот сад и эту комнату.
Они осушили стаканы. Вино было холодное, душистое, молодое. Гребер снова наполнил стаканы. В них стояла золотая луна.
– Любимый, – сказала Элизабет. – Как хорошо не спать ночью. Тогда намного легче говорить.
– Верно. Ночью ты юное здоровое дитя Господне, а не швея шинелей. И я не солдат.
– Ночью люди такие, какими, собственно, должны быть, а не те, какими стали.
– Пожалуй. – Он скользнул взглядом по зайчатине, компоту и хлебу. – Тогда, выходит, мы люди весьма поверхностные. Ночью только и делаем, что спим да едим.
– И любим друг друга. Это не поверхностно.
– И пьем.
– И пьем, – сказала Элизабет, подставляя ему свой стакан.
Гребер рассмеялся:
– Хотя вообще-то нам бы следовало быть сентиментальными и печальными и вести глубокомысленные разговоры. А мы вместо этого умяли половину зайца, и находим жизнь чудесной, и благодарим Господа.
– Так лучше. Или нет?
– Только так и можно. Если ни на что не притязаешь, все – дар.
– Ты усвоил это на фронте?
– Нет, здесь.
– Вот и хорошо. Собственно, это и все, что нужно усвоить, верно?
– Да. После требуется лишь немножко счастья.
– Оно тоже у нас было?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эрих Ремарк Время жить и время умирать [litres] обложка книги](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-cover.webp)


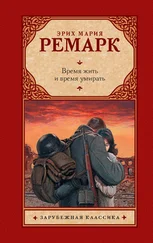
![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Три товарища [litres]](/books/395705/erih-remark-tri-tovaricha-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - На Западном фронте без перемен [litres]](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-thumb.webp)
![Ян Валетов - Не время умирать [litres]](/books/438191/yan-valetov-ne-vremya-umirat-litres-thumb.webp)

