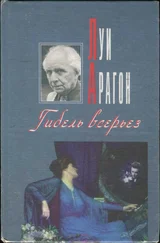— В последний раз, доктор, я видел, как Бомпар представлял быка… обычно он играл роль быка, а вот в роли тореадора выступал Вандерпиль, подпоручик, юнец из Лилля, этакий женоподобный блондинчик. В Эпарже. Подпоручика убили во время рукопашного боя на следующий день после представления… Я, конечно, прекрасно отдаю себе отчет, что все это весьма сомнительно с точки зрения вкуса!
Присутствующие ревели от восторга. Бомпар поистине был неподражаем, он совсем загонял Марсоло, который казался лет на пятнадцать его моложе. Музыкант наигрывал один и тот же мотив, но раз от разу все оглушительнее. Лемутар в углу, за стулом, отплясывал испанский танец, прищелкивал пальцами, взмахивал салфеткой, как шалью. Но никто не замечал его стараний.
— Странная все-таки штука эта самая ваша война, — вздохнул доктор, — мы здесь, в тылу, о ней и представления не имели…
Коррида закончилась гибелью быка. Бомпар катался по земле, а тореадор под восторженные вопли публики искусно подражал завыванию ветра, наигрывая пальцами на губах. Официанты стали разливать шампанское. Пианист, осушив бокал, жалобно захныкал:
— Ай, ай, ай, Фукс! Шампанское отвратительное! Сладкое!
Фукс отбивался:
— На всех не угодишь: одни любят сухое, другие — наоборот… — Словом, поднялся такой крик, что присутствующие не знали, кого и слушать. Впрочем, лично Фукс плевать хотел на шампанское. Только ради Нового года он его и пьет.
— Верно, верно, — орал капитан Милло, — вечно этот Гюро брюзжит! Ну и характерец!
— Но, господин капитан… шампанское…
— Никаких капитанов! Просил шампанского, так и пей.
Человек пять набросились на несчастного Гюро и силой пытались влить ему в рот шампанское прямо из горлышка бутылки. По столам, по полу растекался сладкий, отвратительно липкий напиток. Теперь уже пьян был не один только Лемутар. Бекмейль тоже окончательно опьянел: он хотел спеть еще песню, но Валлант, который уже давно ждал своего часа, выскочил вперед.
— Чудесно, превосходно, — прокудахтал Стефан Дюпюи, — пусть Баллант покажет почтальона.
«Почтальон» был коронный номер Валланта. Стоило ему выпить стаканчик, и он тут же начинал представлять почтальона. Он ходил взад и вперед со своей сумкой, вежливо приветствовал прохожих, взбирался по лестнице, зашел к одной миленькой дамочке, которая отперла ему двери, будучи в костюме Евы, зашел к одному священнику, который… заглянул к привратнику и отправился на велосипеде за город. Присутствующие не всегда понимали смысл разыгрываемых сценок, но хохотать считалось хорошим тоном, и все хохотали. А Баллант носился уже по всему ресторану, заигрывал с публикой, сидевшей за столиками, подходил снова к большому столу и т. д. и т. п. Словом, он окончательно затмил Бекмейля, который тянул своим прекрасным, правда, несколько пропитым голосом: «Манон, солнце взошло».
Банкет потерял первоначальную стройность, присутствующие разбились на группки, что-то кричали друг другу. Принесли кофе, ликеры, задымили сигары. Стол имел крайне неаппетитный вид: опрокинутые рюмки, пепел на блюдечках с недоеденным мороженым, кусочки бисквита, накрошенного нервными пальцами капитана… Теперь Баллант, окончательно разойдясь, затянул свою любимую песенку: «Она из Тонкина», и все — Дюпюи, Гюро, Гюссон, Бланшар, Марсоло — хором подхватили припев: «Моя Анна, моя Анна, аннамиточка моя…»
Доктор обратился к Орельену:
— В сущности, ваша война… это война офицеров, командного состава. Ведь здесь нет ни одного солдата…
Орельен пожал плечами:
— Ни черта вы, мой дорогой, не смыслите. Имеются ассоциации бывших бойцов… А здесь просто собрались товарищи… Возможно, мы случайно стали офицерами, но теперь уже поздно рассуждать… С этими скромными нашивками на рукаве мы подставляли лоб под пули, понимаете, и вот собрались…
— Что же ты, Лертилуа? — крикнул Гюссон-Шарра. Он сидел, развалясь на стуле, вытянув вперед свою деревяшку. — Почему ты не поешь с нами?
Доктор взглянул на Орельена. Орельен запел. Декер слегка прикусил губу. Не затем, чтобы удержать смех. Душа человеческая — загадка. Как часто человек не отвечает тому образу, который мы себе создали, или он сам себе создал. Вот хотя бы сей молодой парижанин, изысканный, медлительный, которого встречаешь на Монмартре, или у Мэри де Персеваль, или у Барбентанов… всегда прекрасно одетый, в меру молчаливый, и он, он поет, на лице его — капельки пота, он не следит, как обычно, за каждым своим жестом. Декер вдруг понял, что Лертилуа находится здесь в своей подлинной стихии. С огромной горечью подумал доктор, что не впервые делает подобное открытие, и не только в отношении Орельена: многое он мог бы сказать и о Розе, о великой Розе, декламирующей Рембо, о Розе в своей стихии! Вдруг он почувствовал, что кто-то коснулся его плеча. Это оказался Стефан Дюпюи, с побагровевшим лицом, с челкой, свисавшей на самые глаза; он покусывал кончики усов, сначала правый, потом левый, нервно, как вратарь, ожидающий мяча.
Читать дальше