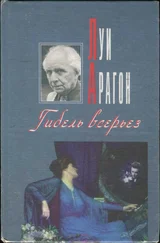— Он мне тут, пока мы не сели за стол, целую истерику закатил насчет социализма, России, бог его знает чего там еще, — сказал Гюссон-Шарра. — Он считает, что универсальные магазины уже отжили свой век, а от световых реклам у него, видите ли, глаза болят! По-моему, он немножко не в себе, как ты считаешь?
Доктор, со своей стороны, тоже рвался поговорить с Орельеном. Внешне он был целиком поглощен всей этой историей с «Косметикой Мельроз» и подчеркнуто обращался с Лертилуа как с акционером. Поделился с ним Барбентан их проектом выпуска дешевых духов на розлив? При участии мадам де Персеваль… фирма будет называться «Мари-Роз», поскольку участницы зовутся Мэри и Роза… У Розы будет свой театр. До сих пор Роза еще не заняла того положения, какое имеет право занять в силу своего таланта, гения наконец. Когда у нее будет свой театр, как у Режан, у великой Сары…
Подали салат.
— А как поживает твоя супруга? — спросил Орельен у Гюссон-Шарра. Гюссон-Шарра женился на своей двоюродной сестре. Впрочем, ничего другого в его положении ему и не оставалось. Пусть она похожа на монашку. Но не мог же он, как в блаженные времена, в офицерской школе в Бло или на постоях, бегать за бабами с неутомимостью браконьера, восхищавшей его однополчан. А какого он раздобыл себе вестового, просто чудо расторопности. Орельен вспомнил солдата Миро, из крестьян, который умел как никто приготовлять своему лейтенанту постель… Он слушал вялые и грустные рассказы соседа справа, который говорил о своей жене, о своем доме, о своей работе, — ему подыскали работу в банке Гюссон. Пристроили Гюссон-Шарра с его деревяшкой к верному делу. Должно быть, он просто ненавидит свою жену. И ужасно растолстел. В свое время он мечтал стать адвокатом, до военной службы учился год на юридическом факультете… потом началась война. В продолжение всего разговора он нервно шевелил протезом под столом, очевидно никак не мог приладить его поудобнее. И Орельену вспомнился Люсьен Морель.
— Когда тебя ранили? Словом, когда… — спросил он соседа.
— Когда я потерял лапу? — подхватил тот. — Надо признаться, мне таки не повезло. Представь себе, в самом конце войны. В октябре восемнадцатого года. На дороге Мобеж, когда мы драпали из Мальмезона. Целых три года проторчать на передовых, и вдруг — хлоп! на тебе! к шапочному разбору! Ты ведь сам знаешь, я не из тех дурней, которые лезут в любое пекло… Ничего не скажешь, все-таки повезло, я считал, что мне уже каюк, думал — совсем не выберусь. Как только боши начинали чуть посильнее жарить, меня холодный пот прошибал. Я все боялся, что товарищи заметят. Когда вылезешь из окопа, тогда уже легче. Самое паршивое — это вылезать. Вот вы все, по-моему, не так это переживали… а я-то, я-то, боже ты мой! Когда я почувствовал, что ранен, я начал себя ощупывать: голова на месте, руки, ноги… Ног-то пока еще было две, но одной вроде как и не было, странное дело, она вся словно обледенела…
У присутствующих не хватило терпения ждать десерта: Бекмейль с блестящими от жира губами и подбородком поднялся с места, его соломенная шевелюра казалась теперь почти желтой; приложив руку к сердцу, он по общей просьбе затянул:
Если Роза сюда не придет,
Увы, я умру, увы, я умру!
— Ты был прав! — заметил Гюссон-Шарра. — Но увидишь, все равно он потом споет «Серенаду»…
— Нет, — ответил Орельен, — лучше уж заведем Валланта, а то этот никогда не кончит…
— Кто это Баллант?
— Кюссе де Баллант… художник. Видите, вон тот толстяк… что называется, душа общества! Когда не говорит о живописи…
Доктор Декер задумчиво покачал головой:
— Все-таки странно, Лертилуа, всех вы здесь знаете… Вот бы никогда не подумал… Я вас считал этаким отшельником, одиночкой, а оказывается, вы поддерживаете связи с самыми неожиданными людьми.
Орельен взглянул на доктора с улыбкой. Он только что особенно остро осознал свое одиночество. Он то и дело оглядывался, но тут же поворачивался спиной к дверям ресторана, откуда мог появиться Эдмон, тот Эдмон, к которому он решил больше не приставать, тот Эдмон, с которым можно поговорить о Беренике. Внезапно он до мелочей ощутил всю нелепость окружающей обстановки: медные бра с электрическими свечами под сборчатыми розовыми абажурчиками, картина с изображением морского шторма и под пару ей — другая, то же море, но в штиль и в полукольце пурпурных утесов; столик для посуды возле большого стола, тесно уставленного бутылками самого невероятного вида, ведерками для шампанского и чистыми приборами. Плюшевую с помпонами дорожку на пианино и огромную вазу под севр, откуда свешивали свои головки искусственные цветы в обрамлении искусственных листьев. Ощутил всю причудливость зала, разделенного на две неравные части, — в углу, за маленькими столиками сидели посетители, непричастные к торжеству, и кидали робкие взгляды на участников банкета, совсем как какое-нибудь дикое племя, чудом попавшее на раздольную фламандскую ярмарку. Слишком шумное веселье. Громкое «браво», скандируемое хором, песни, хохот, крики. Многих так и подмывало встать с места и пуститься в пляс. Лемутар уже окончательно опьянел и дирижировал вилкой. Прочие напряженно ожидали следующего номера. Но когда подали пломбир, после Бекмейля вдруг поднялся для очередного выступления не Баллант, а Бомпар, лейтенант Бомпар в своем знаменитом жилете в желто-черную полоску. «Ага, сейчас начнется, — подумалось Орельену. — Совсем как в Эпарже…»
Читать дальше