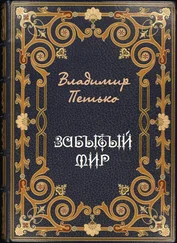Увидев здесь монаха, несущего гроб, Порат засверкал глазами, начал негодующе оглядываться, но Дмитрий поймал его взгляд, приложил ладонь к губам, потом к сердцу, и старик потупился, промолчал.
...Вообще эти похороны послужили в Бобровке поводом к ожесточенной религиозной распре. Немногочисленные язычники, в основном литвины, не пожелали допустить до Боброва гроба христиан, христиане же, в лице отца Василия и двух его дьяконов не могли безучастно смотреть на «поганые игрища» и подступали к княгине с упреками и угрозами пожаловаться архиепископу.
Любаня отговаривалась как умела. Что она могла поделать? Ведь все-таки дед-то — не христианин. У Любы голова пошла кругом от неожиданно свалившейся заботы. Между тем Порат уже успел встретить отца Михаила где-то на дороге и высказать все, что он думает о нем и его религии, то есть получился настоящий скандал, который Пората вполне устраивал. И тут то ли сам отец Михаил догадался, то ли монах ему посоветовал — этого Люба так и не узнала, — но христиане мудро разрешили конфликт, не дав поторжествовать ревностному охранителю деревянных богов. Священник собрал свой причт и уехал отпевать по селам удела убиенных в последней битве христиан. А Люба облегченно вздохнула.
Когда отроки сложили поленницу, упала тишина. Порат поднял руку к небу, и тут же гулко девять раз бухнул барабан.
— Огня! — властно и грозно крикнул Порат. Ему подали факел, зажженный на жертвенном камне.
— Тебе, грозный Перун, мое слово! И мой Огонь! Прими в дружину свою славного воина Бориса! Он чтил тебя и твои законы! Он храбро сражался здесь, на земле! И он будет славным помощником тебе там, куда ты призвал его! Прими! — И Порат опустил факел к основанию поленницы.
Затрещали деготь и смола. Язычки пламени побежали по дровам вправо, влево, вверх... Стоявшие в провожавшей толпе язычники пали на колени. Увидев это, опустились на колени и все остальные, начали креститься. Загрохотал барабан. Пламя взметнулось сильно, дружно.
— Прими воина своего! — прогремел еще раз Порат, швырнул факел в костер н последним упал на колени, продолжая смотреть в небо и тянуть вверх руки.
— Прими! — эхом отозвалась толпа.
Огонь разгорался быстро. Через пару минут он заслонил гроб и белым столбом с ревом устремился в черное небо.
Дмитрий с трудом оторвал взгляд от костра, оглянулся. Рядом стоял монах, мелко крестился, шептал молитву, а слезы ручьями катились у него из глаз и падали крупными каплями то с кончика носа, то с усов.
— Что же делать будем, отец Ипат? — Дмитрий держал в руках только что принесенную Поратом глиняную урну с тем, что осталось отдела.
— Что, Мить?
— Порат велел развеять пепел по ветру над рекой утром сорокового дня...
— Ну и?..
— А дед просил положить его рядом с матерью моей...
— Дак ведь она же христианка! Как же я нехрещенного на христианское кладбище?! Ты что?!
— Вот и я о том же... Как же быть? Он так хотел с дочерью рядом... Может, как-нибудь... А?
— О Господи! Воля твоя! — Монах сидит всклокоченный, с опухшим от слез и вина лицом. Вчера на поминках он напился с горя так, что упал, и Гаврюха с Алешкой отнесли его в светелку как куль с мукой. Сейчас он опохмелился, но еще не совсем отошел, вздыхал тяжко, чесал то бороду, то затылок.
— Он мне наказал... давно еще... если что, к тебе обратиться. Говорил, что ты придумаешь что-нибудь, найдешься...
— О Боже мой! Боже мой! Чего тут можно найти, кроме как грех взять на душу свою, великий грех, который не отмолишь! Ты думаешь, он этого не понимал? Упрямая голова! Надеялся, что долго еще проживет. Да на меня! Сколько раз ему говорил — крестись! А он только губами дергал — успеется... Вот и дождался!
— Так что?
— Что, что! Видно, до конца придется из-за семейства вашего душу губить! Гришка!
В светелку влетает Гришка.
— Квасу! Рассолу огурешного! Огурцов! Капусты! Чан воды на огонь поставь! Мыться буду. Да! Молока кислого из погреба принеси, самого давнишнего!
— Понял!
— Давай живо!
Гришка исчезает.
— Чего надумал-то? — Дмитрий не понимает, смотрит виновато. — Чего, чего... Придется окрестить...
— Кого?!!
— Кого, кого... Его! — Монах кивает на урну, и у Дмитрия отвисает челюсть.
— Может и нельзя так, да что там! — конечно, нельзя, грех великий. Но некрещеного к христианам — еще страшней. Такого Господь не простит! А это... — авось отмолю! Ведь знал же он, что Бобер его почитал...
— А не отмолишь?
— Семь бед — один ответ! Бог милостив! Иисус говорил: тот больше праведник, кто согрешил, да покаялся, чем тот, кто не грешил. А мне только каяться и остается. Грехов на мне — на три ада хватит!
Читать дальше