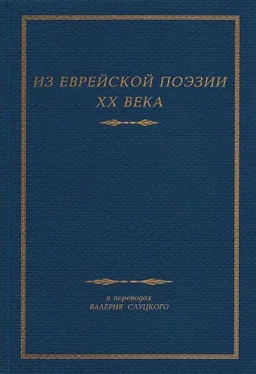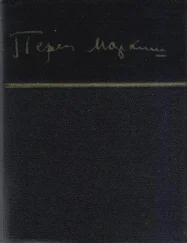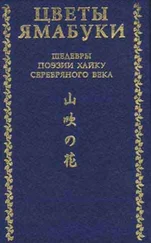1922, Цфат

Обращены к твоим камням и кущам,
В рубцах и ранах выпятив горбы,
Расселись горы и кричат идущим:
«Ерушолаим!» — скрежетом арбы.
И тьмы сожженных дней сползаются к горам
Давиться плотью их истерзанно-бескровной,
Скрежещущую боль их мертвой родословной
Швырнув боготорговцам и ворам.
Твоя земля, святой Ерушолаим,
Годится, чтоб святить лишь тех, кто распинаем —
Налоги, бурдюки, рабы, загоны, грязь…
Но из пещер спускаются к предгорьям
Босые пастухи и бодрствуют, склонясь
В мольбе о буре перед Мертвым морем…
1922, Иерусалим
Я жив еще! И кровь, как прежде, горяча!
Кому я задолжал? Кто первый алчет крови?..
Восходит месяц твой — топор из-за плеча,
И мрак твоих ночей — как сдвинутые брови.
Подобно деревцам, назначенным на сруб,
Редеют дни мои, к которым нет возврата;
И слово осеклось, боясь сорваться с губ,
Стремлюсь и не могу в тебе увидеть брата.
Смертелен мой укус! В глазах застыла боль —
Пожары и резню в себя вобрать пришлось им!
И все равно с мольбой: «Любить тебя позволь!» —
Я льну к твоим ногам в самозабвеньи песьем.
Ты мне предначертал блуждать в зловещей мгле,
В меня из-под руки камнями злобы целишь…
И все равно, лицом припав к твоей земле,
Молю тебя: «Позволь быть преданным тебе лишь!..»
Накатывает страх, взметая вопль и вой…
Разгульная хула кипит до горизонта;
И слух не разберет в стихии ножевой —
Шевченко ли поют? Звенит ли саблей Гонта?
Ладонями знамен ласкает смерть. Она
Пьянит меня бедой и обнимает страхом;
Макушками лесов заточена луна,
И песня кобзаря летит над черным шляхом.
В тоске дразнящих струн — предгрозовая хмарь…
Припрятаны ножи и ждут призывных знаков.
На праздник в Чигирин сзываешь ли, кобзарь?
Не будишь ли игрой уснувших гайдамаков?
И кажется, меня, как жертву, сторожит
Фарфор звериных глаз, тупых, как бой баранов;
Кто знает, мне ли жизнь моя принадлежит?..
Но имя отобрать не сможет смерть, нагрянув…
Мне хочется плясать в сетях кровавых смут,
Победно примирясь с затребованной данью,
И звать к себе гостей, которые возьмут
Мой голос заодно с разрубленной гортанью.
Я жив еще! И кровь, как прежде, горяча!
Кому я задолжал? Кто первый алчет крови?..
Восходит месяц твой — топор из-за плеча,
И черною рукой ты закрываешь брови!..
1924
Встречая ночь,
В одежды скорби кутаются дали.
Эй, призраки базаров, сгиньте прочь,
Вернув кладбищу прах изъеденной морали!
И ваши имена, чья древность — напоказ,
С себя сорвите вместе с головами, —
Мне нечего наследовать у вас,
Вам — завещать идущему за вами.
О круглая земля! Страданием казнима,
Варшава ли, Нью-Йорк — во всех приделах света —
От Вильны и Москвы до Иерусалима,
Как старые камеи, носишь гетто!
1932
Сейчас, когда, прозрев, глаза велят: «Гляди!», —
Сквозь режущую боль в зрачке незамутненном
Я вижу, омрачась, что сердце из груди,
Как зеркало, упав, рассыпалось со звоном.
Я знаю, мне верна, черты мои храня,
Любая из частиц, разбросанных повсюду.
О время — мой судья, не растопчи меня,
Пока в пыли искать свои осколки буду…
И вместе их собрав, изрежусь в кровь стеклом, —
Чтоб цельность им придать стараньем напряженным, —
Но как бы ни сложил, приклеив к слому слом, —
В том зеркале себя увижу искаженным.
О, сколько хочешь раз его перекрои —
Лишь плавящая боль позволит возвратиться
Единству моему в той целостности, чьи
По всем семи морям рассеяны частицы.
1943
С. Михоэлсу — вечная свеча у гроба
1
Последний выход твой перед народом
Среди заснеженных руин.
Ни слова твоего, ни голоса — один
Застывший вздох под мерзлым небосводом…
Но и теперь мы слышим, как поет,
Взывая к нам, незримое движенье
Орлиных крыльев. Их вручил народ
Тебе, в ком отзвук бед его и утешенье.
Открыта сцена. Образы живой,
Забвенью не подвластной вереницей
Проходят над твоей, как прежде, яснолицей,
В сон погруженной львиной головой.
Читать дальше