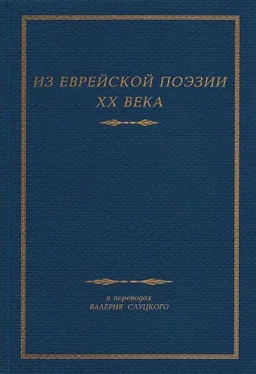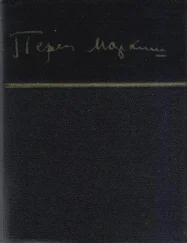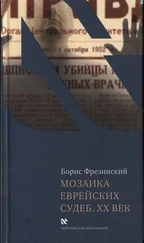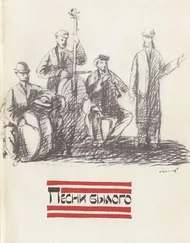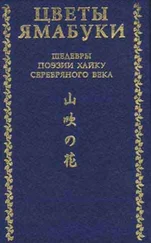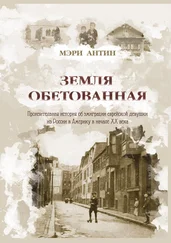Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века
Здесь есть возможность читать онлайн «Перец Маркиш - Из Еврейской Поэзии XX Века» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Иерусалим, Год выпуска: 2001, ISBN: 2001, Жанр: Поэзия, sci_philology, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Из Еврейской Поэзии XX Века
- Автор:
- Жанр:
- Год:2001
- Город:Иерусалим
- ISBN:965-222-968-7
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Из Еврейской Поэзии XX Века: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Из Еврейской Поэзии XX Века»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Из Еврейской Поэзии XX Века — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Из Еврейской Поэзии XX Века», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ключ к пониманию гофштейновской лирики нужно искать за пределами лирических стереотипов. Лишь вдумчивое прочтение, внимательное к смысловой многомерности поэтической ткани, позволяет приоткрыть глубину поэтической мысли Гофштейна.
В тесной комнате
На двух черных строгих стульях
В бессилии лежат наши помятые одежды…
Как на берегу
На песке,
Там ждут они,
Кучки оставленных одежд…
Я далеко от стен, от городов уплыл —
Вокруг мировое пространство,
И волны гонятся и дышат пеной…
Моя любимая, не спеши закрывать
свой томный взор —
В его измученном увлажненном зеркале
Я все еще гляжу туда,
В светлое забытое «назад»…
Гофштейн безошибочен в изобразительно-смысловых штрихах и нюансах, рисующих двухмерную — реально-зримую и символическую картину, мерцающую двояким, взаимопроницающим содержанием поэтических образов. В лаконичном описании « тесной комнаты » создается эффект полумглы от соседствования резкой контурности « двух черных строгих стульев » с неопределенностью, размытостью форм « в бессилии » лежащих « наших помятых одежд ». Этот внешний образный ряд неотделим от возможности символического прочтения, подразумевающего « тесную комнату » обыденности с ее приземленностью и житейскими путами. Ее стражи — « черные строгие стулья », на которых « в бессильи лежат наши помятые одежды », — сброшенные « нами » бренные, внешние оболочки « нашего » « тесного » существования. Далее возникает образ берега, океанского или морского, поскольку только морской и океанский простор имеет глубину дали, врастающую в « мировое пространство ». Образ океана (моря) связан с внешним изобразительным планом и всей направленностью многомерного смысла, то есть с « волнами », которые « гонятся и дышат пеной » и с философской символикой, распахивающимся перед взором любви морем сущности, полноты бытия, « мировым пространством ». В завершающих строках стихотворения в « тесной » действительности возвратившейся комнаты открывается подаренная любовью безграничная глубина, — уходящая, но не гаснущая светлая реальность всеобъемлющего мгновения.
Во многих характерных для Гофштейна стихотворных произведениях живой, конкретный, современный мир осмысляется с библейской масштабностью. В отличие от привычной для русскоязычного читателя поэтической речи, где целое, как правило, складывается из отдельных, эстетически взаимодействующих образов, эти стихотворения сами являются укрупненными образами. Например, в стихотворении « Еще стены оплетены лесами… » художественно-содержательный разворот определяет моно-метафора — стройка.
Еще стены оплетены лесами,
Мусором старым
Завалены пороги,
И эхом отдает еще пустота…
Но я уже вижу вас, миры обновленные,
Глазами светлой веры…
В других случаях укрупненный образ как бы вплетен в изобразительно-смысловые ярусы поэтической ткани. Вот стихотворение, основа которого — картина проходящих суток.
(НОЧЬ) На тихом весеннем просторе диких далей
Все капает и капает моя старая трепетная
кровь.
К черному сердцу прижимают ночи
Боль дней оскверненных.
(ЗАРЯ) Но пламя раскалывает мягкое лоно туманов
И выжигает в огненном ожидании
Все новые знамения
Для следующего натиска затаившегося гнева…
(УТРО) У красных ворот прозрачного утра
Становится на вахту
Звук мчащегося горна…
А гривы готовы к первому рывку,
И копыта железные едва дождутся
Первой смены проносящихся далей,
Удара новых битв…
(ДЕНЬ) С сердечным трепетом я слушаю их,
Тысячедыханные крики радости,
С застывшим страданием я чувствую их,
Немые трепещущие боли…
(ВЕЧЕР) И когда ночь
Готова клонящийся день
В немом лоне укрыть, —
К далям тянет мою пламенеющую душу…
(НОЧЬ) Веревками тысяч желаний связан,
За колесами усталыми, пьяными от битв,
Пленный я шагаю среди полей широких.
(ЗАРЯ) И я с ними, всегда готовыми
К новым звукам бодрящего горна,
К новому пламени очищающего гнева…
Многоплановость этого стихотворения вынуждает нас обратиться к несколько условному, последовательному описанию его изобразительно-смысловых рядов, каковых в приведенном стихотворении нам видится по меньшей мере два. Внешний план стихотворения — восходящее новое бытие и жертвенность отжившего, умирающего мира, от которого неотделимо « мое » существование, « моя старая (т. е. ветхозаветная) кровь », сочащаяся на «весеннем просторе диких далей». « Ночи », прижимающие к « черному сердцу (траур)… боль дней оскверненных », «раскалывает пламя» зари (новой жизни), чьи огненные «знамения» возвещают « следующий натиск затаившегося гнева » (нового сознания, веры). Новая действительность, взявшая в плен « мое » существование, побеждает (образ Гражданской войны) в битве между радостью обретения и болью утраты, сметая прежнее, отжившее бытие « пламенем очищающего гнева ». Должно быть не случайны в этом ряду « колеса усталые, пьяные от битв », « всегда готовые к новым звукам бодрящего горна ». Здесь (не в ущерб, разумеется, образу тачанки) вполне правомочна ассоциация с огненной колесницей — солнцем. Любопытны также смысловые штрихи, раскрывающие стройность и глубину целого. Так в начале стихотворения пламя зари, вычерчивающее огненные знамения для натисков « затаившегося гнева », является символом очищения, а в финале, в знак совершившейся победы, «пламя очищающего гнева» символизирует зарю. Таким нам видится внешний план, далеко не исчерпывающий содержание стихотворения. Образ « моей пламенеющей души » переключает восприятие на новый смысловой регистр, подсказывая, что восходящее солнце, заря « раскалывающая мягкое лоно туманов » — « моя » душа. Ветхое и новое, отжившее и рождающееся, ночь и день в подобном прочтении могут пониматься как внутреннее напряженно-трагическое отношение двух сторон моего существа — « старой (вет-хозаветной) крови » и рассветной души, боли и радости, сражающихся « во мне » самом, чувства оскверненности (« дней оскверненных » — в начале стихотворения) и пафоса очищения (« очищающего гнева » — в финале). Указанием на то, что перед нами разворачивается мистерия внутренней жизни сознания, можно считать отсутствие в стихотворении других кроме «меня», «моей» души действующих лиц. Не горнист, но — «звук мчащегося горна», не всадники, не конница даже, но — «гривы, готовые к первому рывку» и «копыта железные», ждущие в нетерпении «первой смены проносящихся далей», не кричащие радостно или поверженные в страдании люди, но — «тысячедыханные крики радости» и «немые трепещущие боли», не герои-конармейцы, но — «колеса усталые, пьяные от битв». К тому же предельно абстрактен, обобщен и сам пейзаж — «простор диких далей», могущий трактоваться в данном контексте как духовное пространство сознания, охваченного пламенем внутренней борьбы, сознания, в котором совершается преображение личности. Стоит ли пояснять, что наше прочтение не исключает других аргументированных интерпретаций стихотворения. Принципиально одно — существенность у Гофштейна изобразительно-смысловых деталей, соотнесенных в каждом развороте содержания и, следовательно, сама возможность усмотрения таких разворотов, определяющих глубину и многомерность поэтического произведения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Из Еврейской Поэзии XX Века»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Из Еврейской Поэзии XX Века» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Из Еврейской Поэзии XX Века» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.