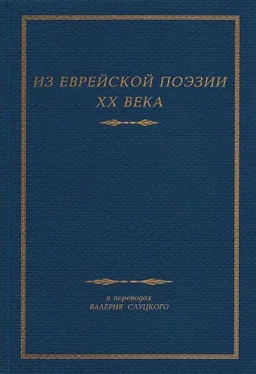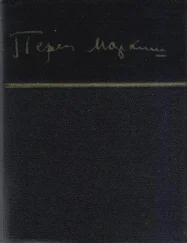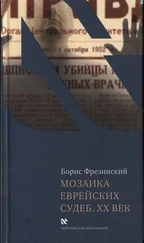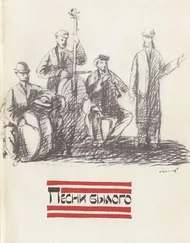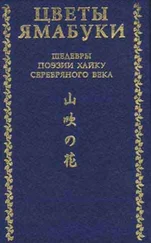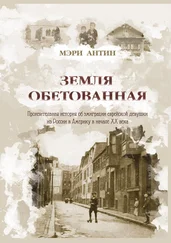На пути поэзии языковой барьер — категория абсолютная. Нет и не может быть мостов и лазеек, позволяющих произведению напрямую, не расставшись со своим языковым бытием, перейти в другую языковую действительность.
Преодолеть невозможное возможно только тогда, когда в полной мере осознается необходимость нового через прерыв воссоздания поэтической вещи, стремящейся выразить оригинал в системе другой речевой среды, изнутри ее актуального и живого контекста.
Сконцентрированность на том, чтос языка на язык непереводимо, куда продуктивней перевернуть в позитивную, творческую проблему: что есть предметпоэтического перевода? Чтомы собственно переводим с языка на язык? Только этот подход делает нас хозяевами ситуации, вводит труд в созидательную колею, требуя и вместе с тем позволяя ясно определить, чтоявляется подлинным содержанием, а что— лишь средствами для его воплощения. Суть, очевидно, не в реалиях образов, аллитерациях и размерах, то есть не в средствах поэзии, верно, непереводимых, поскольку в конечном счете не они предмет перевода. Подчиненные главному — идее оригинала (на всех ее уровнях — и смысловых, и эстетических), они выражают произведение лишь в контексте своей языковой действительности. Существенный разворот или субъект межязыкового тождества заключен в идее произведения, соотносясь с которой, поэт творил необходимую эстетическую орудийность.
Автор свободен в выборе поэтических средств. Аналогичной свободой пользуется поэт-переводчик, поскольку свобода должна входить в содержание перевода, выражая подлинность внутренних взаимодействий. Отличаясь от своеволия, уводящего в сторону от идеи оригинала, переводческая свобода подчинена установке на подлинное содержание, на адекватность по существу. Степень свободы подсказывается художественной идеей, являющейся ориентиром в выборе воссоздающих средств.
Только наличие смыслового стержня, позволяет определить формообразующее начало не повреждающей подлинность эстетики воссоздания. Если выражен смысл, то и «дух» приложится. Отсюда, решающий для перевода творчески строящий момент — выявление идеи оригинала, внутренней взаимосвязи его содержательных линий.
Разумеется, интерпретация не означает полного совпадения, но наличие обоснованной версии, той, которая не утратила смысловой многомерности целого, есть ничто иное как воплотившаяся в переводе актуализация подлинника. Эллиптически свернутое в единственности оригинала разворачивается во множественности воссоздающих версий. Другими словами, поэтический перевод является формой множественной жизни оригинала.
Есть и еще одна существенная сторона, неотъемлемая от подлинника и подлинности перевода — это личностное начало. Здесь поэт-переводчик призван не себявыражать в ипостаси автора, но автора выразить как себя. Можно сказать, что по отношению к оригиналу он — переводчик, ибо делает оригинал достоянием иноязычного восприятия, по отношению к читателю он — поэт, ибо нет воссоздания без живой, поэтически-личностной орудийности, по отношению к творчеству он — соавтор, ибо это условие, без которого подлинность слова непереводима.
К переводам Давида Гофштейна
Поэзия Гофштейна чиста, непосредственна, искрометна и обаятельна. Но ее своеобразие выходит за рамки достоинств экзистенциональной лирики. Укорененная в еврейской духовной и культурной традиции, она раскрывается в двуединстве прямого поэтического видения и, часто не лежащего на поверхности, философского иносказания. Живая описательность у Гофштейна неотделима от символических параллелей, эмоциональность от аналитической выверенности смысла.
Гофштейн не прост для восприятия. Богатый подтекст его поэзии ненавязчиво воткан в прозрачную и всегда неожиданную своим разворотом изобразительность.
Я увидел ее у реки
Под ветвями,
Под зеленой, небом заплатанной крышей.
В двух десятках шагов,
На земном молчании
Немой там камень,
Упрямый сустав
Рассеянных, распыленных останков
моей издревней родины…
Я увидел ее в обнаженной радости ее тела,
В стекающей короне ее душистых волос,
Я услышал из глубин издревнеюных лет:
— Вот та, которую зовут Жена! [1] Сноска отсутствует ( прим. верстальщика ).
На первый взгляд — это лирическая зарисовка. Но в том-то и дело, что за раскованной описательностью прячется смысловой монолит, незыблемое единство образов-иносказаний, выражающих надлирическое содержание. « У реки » — это, конечно, у реки времени, на берегу которой « немой там камень ». А почему именно « в двух десятках шагов », а не в полутора или не в трех? Случайность? Нет. Речь идет о двадцатом веке. В двух десятках столетий от ушедшей в рассеяние « моей издревней родины » лежит этот камень — « упрямый сустав » ее « рассеянных, распыленных останков ». А почему « немой »? Да потому, должно быть, что он частица мертвого тела, распыленного праха… Но сейчас, здесь, в двадцатом столетии « я увидел ее » у реки времени. Мертвое тело « моей издревней родины » воскресло « в обнаженной радости ее тела ». В сегодняшней реальности « она » — телесная ипостась « родины », ее продолжение, непрерывность. « Вот та, которую зовут Жена! », то есть родина осмысляется как жена, а в жене воскресает родина. Жизнью побеждается смерть. И немота камня « на земном молчании » сменяется заговорившими глубинами « издревнеюных лет », неотъемлемых от « моего » телесного и духовного существования. Любопытно к тому же, что « стекающая корона » волос — образ, соединяющий в себе « реку » и « ветви », поскольку « корона » и « крона » на идиш звучат одинаково («кройн»). « Она » как бы совпадает с пейзажем, вписывается в него как мысль, как видение.
Читать дальше