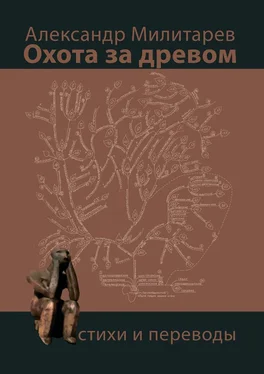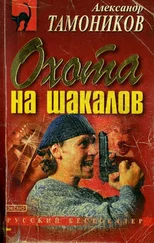Но мiр ждет от поэта не интеллектуальных технологий, пусть даже несущих в себе самые глубокие содержания (как ждет он их от ученого), но иного. Я бы отважился определить это иное как некую неприневоленную стенограмму мыслей, страстей и внезапных образных чередований в потоке ритмически благоустроенной речи 77. Страсти и образы подчиняются языку и одухотворяются языком, а через язык — в законосообразностях и парадоксах языка — мыслью и самосознанием. И в этом смысле, как писал Бенедетто Кроче, поэзия синонимична человечности 78.
К самой себе — через собеседника — обращенная мысль — вот что образует суть тайного, но столь трудно понимаемого союза науки и поэзии. Но тайна эта чаще всего ускользает от самих же «научных» людей. Ученый, подобно детективу, должен искать процессы взаимных переходов и взаимных опосредований мысли, поэзия же, внешне исходя из навыков, образов и нестрогих ассоциаций обыденной речи, делает акцент на стремительное, на дискретное, по пушкинским словам — «глуповатое» 79. Акцент на неожиданное, нетривиальное, на удивление перед вечной новизной мiра в обманчивой случайности мысли и образа 80.
И коль скоро сам я, будучи человеком из ученой братии, в какой-то мере принадлежу и к диаспорному племени поэтов, то не могу не вспомнить одно из частных, но насущных для меня определений лирической поэзии, которое внезапно подарил мне в застольном разговоре саратовский историк Игорь Юрьевич Абакумов: лирическая поэзия есть, в некотором роде, историография понимания 81 . А ведь, действительно, это определение — в «десятку». Ибо весь круг научных социогуманитарных знаний можно было бы по аналогии назвать историографией объяснения 82.
И вот, на гранях двух частных определений — поэзии как историографии понимания и социогуманитарного знания как историографии объяснения — и строится весь наш краткий разговор о поэзии ученого-лингвиста Александра Юрьевича Милитарева. Ибо сама его жизнь строится на гранях этих двух больших и взаимно неразменных историографий: историографии объяснения (труды по исторической лингвистике — прежде всего афразийских, или семито-хамитских, языков — и по общим культурологическим проблемам истории еврейского народа 83) и историографии понимания (то бишь поэзии).
Сам научный дискурс Александра Милитарева, построенный на проблематике прорастания нашего-с-вами-языка, нашего-с-вами-мышления, нашей-с-вами-истории сквозь толщи пространств и времен, оказывается для него одним из главных источников поэтического вдохновения.
Через язык, через культуру исторической памяти, через решение исторических «головоломок» поэт осмысливает свою связь с животворящей и — одновременно — смертоносной преемственностью и динамикой времен:
Боинг курс спрямил на Канары,
вмерз я в кресло, не мертв, не жив.
Всё же я не такой уж старый —
не старее, чем Вечный Жид.
Тысячелетия истории человечества, тысячелетия истории поэзии, тысячелетия истории еврейства, годы и годы личной истории прессуются в те мгновения, когда из внешне случайных ассоциаций рождаются фрагменты поэтической речи:
И прободенный язвой бок,
и плоть, что над трубой дымилась, —
всё облачится в слог, как в милоть,
но речь простую слышит Бог.
Афористичность милитаревской музы — также несомненная дань востоковедным и историческим занятиям поэта.
История еврейская, история российская продолжается, длится в самом поэте и в повседневности, и в любви, и в трудах, и в досужих разговорах московских интеллигентов за «водочными процедурами», и в непредугаданных обстоятельствах смерти. Нашей-с-вами-смерти.
Отмерено было сполна
мне нежности женской и детской,
беседы мужской и труда,
но чаша пита не до дна
египетской, царской, стрелецкой,
и благо не ведать — когда.
Последнее шестистрочие сонета «Не меден, как грошик и щит…» — удостоверение особой ассоциативной и смысловой насыщенности стихов Милитарева. Два трехстишия — взаимодополнительны и контрастны. Первое трехстишие — как бы автобиография честного научного производственника. Второе же — отсылает нас и к книге Исхода, и к молению о Чаше, и к номенклатуре московской вино-водочной продукции, и к Сурикову, и к ахматовскому «Реквиему»:
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу