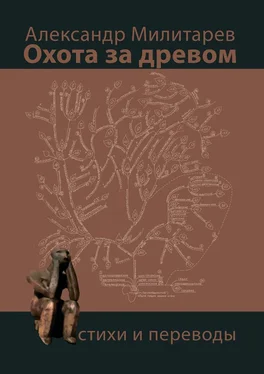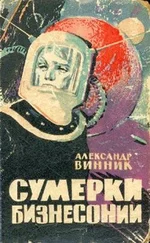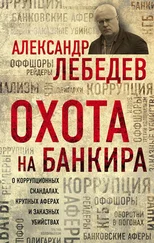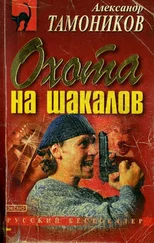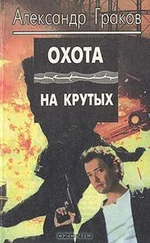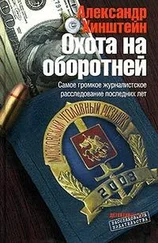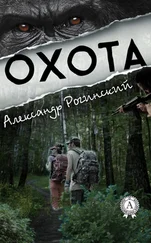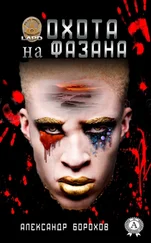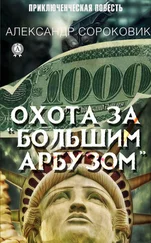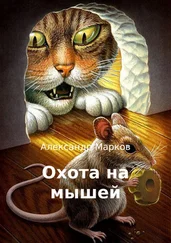Детская тема попадается в моей маленькой выборке слишком часто. Неслучайно это, однако. Ну, может, потому, что дети — это будущее, а будущее всегда волнует. 8 — забегание вперед, по счастью — удачное. Завещание, которое не только не пришлось, но и не придется выполнять — сын уже подрос ко времени написания мной этого текста. Но остался голос отца, скрепляющего тоненькую нить времен, которая того и гляди порвется. Это очень лично, очень одиноко, хоть и обращено к другому человеку. Это исчезающая надежда на понимание, взывание к почти что невозможному событию: пониманию между людьми из абсолютно разных культур и разных эпох, даже если они — отец и сын. И в полном соответствии с такой невероятностью: И вернешь меня в Гарлем, положишь рядом / с тельцем, что сразу прильнет ко мне. / И не узнать, что мировой порядок / ради нас поменялся в забытом сне . Может, для этого момента и пишет А.М. невесомый томик моих стихов .
Прихотливые вольности в 9 — высокого полета. Очевидные истины ( От камня по воде круги, / растопит айсберг пламень спички ) — обман в царстве духа. Стихи, в свою очередь, за дух тоже не отвечают: Вольно ж тебе признать стихи за формулу различий духа, то есть не в них дело. А в чем? А вот:
Забыть себя, побыть другим, / чтоб ощутить родство в их шкуре / и архетип принять, как гимн, / стоймя в любой архитектуре (очень хорошо это « стоймя »). А дух, с которого вроде все и начиналось? А нет его: А что же дух? Постой, постой, / здесь только кожа, только кости… / мы ненадолго, на постой, / с одной пропиской на погосте . Странный стих, с почти неуловимой нюансировкой. Плод расслабленного рефлексирования, помноженного на изысканную культурную традицию. Это когда от сердца отходит, но голова работает и вносит раздрай в науку идентификаций (тоже здорово сказано).
Про 10 сказать особенно нечего — это разговор с детьми насчет разных птице-ящеров, может быть, слишком затянутый. Я уже не помню, как долго дети могут такие разговоры выдерживать, но вроде список ящеров там все же слишком длинный.
В связи с этим читатель получает бонус — рассмотрение другого, более понятного стихотворения, на это раз не случайного, а по моему собственному выбору. И даже не всего его, а лишь фрагментов. И не рассмотрения, а просто приведения:
Открытье требует отрытья, / а память вкрадчива как крот. / Уже назначен час отплытья, / уже не время для острот,…/ что брошен лот и нет возврата, / и продолженью не бывать, / а если брат пошел на брата, / здесь просто не с кем воевать… Так, значит, в путь! / А птицу-веру в то, что вернуться суждено, / под птичье слово утром серым / по сквозняку пустить в окно.
Александр Милитарев сказал все, что хотел, в своей замечательной лирике. Анализ показал, что слабых мест и проходных стихов там почти нет. Книгу можно открывать и читать в любом месте. Все, что он делал, было нужно только ему, это видно. Он не писал в газеты или в связи с какими-то событиями, если эти события не задевали его душу. Но, том не менее, они задевают и меня, рядового читателя. Заденут еще кого-то. Чего еще ждать от поэзии?
Нью-Джерси, октябрь 2017
«Но над моей строкой не властен тлен…»
Сонеты Шекспира в переводе
А. Милитарева
В книге стихов Александра Милитарева «Homo tardus (Поздний человек)» (Критерион, 2009) дана краткая справка об авторе, которую уместно воспроизвести в нашей публикации его переводов шекспировских сонетов:
Александр Юрьевич Милитарев — лингвист-компаративист, представитель Московской школы дальнего языкового родства, ученик и соавтор И. М. Дьяконова и С. А. Старостина, один из авторов этимологического словаря семитских языков, автор ряда популярных и свыше ста научных публикаций по языкам и культурам Ближнего Востока, Северной Африки и Канарских островов, по применению лингвистических методов в реконструкции этнокультурной истории, разработке единого генеалогического древа языков мира, библеистике. Доктор филологических наук, профессор Института лингвистики и кафедры истории и филологии Древнего Востока Института восточных культур и античности РГГУ и кафедры иудаики Института стран Азии и Африки МГУ, участник российско-американского проекта «Эволюция человеческих языков» в Институте Санта Фе. Читал лекции во многих университетах Европы, США и Израиля. Переводчик поэзии с английского и испанского. Настоящий сборник — второй (первый — «Стихи и переводы», М.: Наталис, 2000).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу