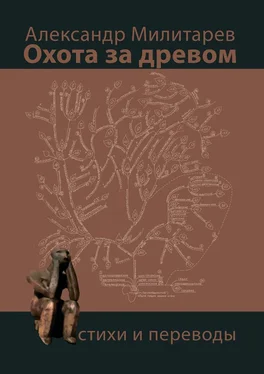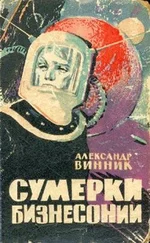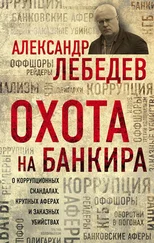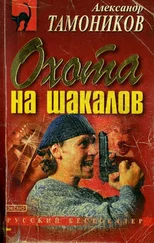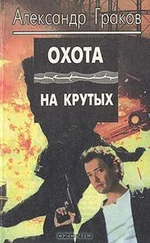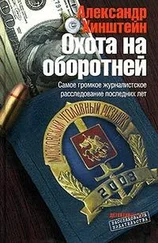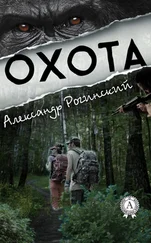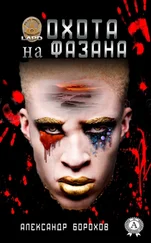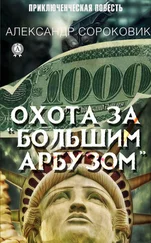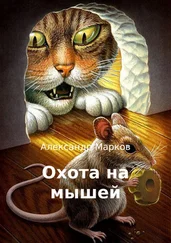Коси́тся на природу мастерство,
под роды ко́сят творческие муки.
Художник добр. Он не обидит мухи
(ну, разве малость брата своего).
Но к старости страданья скоплен опыт,
и лишние шумы слышны как шепот.
Возделывай, художник, тихо куст свой,
но не за счет живых, а вместо сна.
Жизнь подлинна. Искусственно искусство.
Поэзия, где твое место, знай.
Странно. Поэт — хорошими стихами — пробует окоротить поэзию. В храме культуры, говорит он, обитает божество искусства, художники — распутники при храме, поэты — свирепые мамелюки. Но храм и обитающее в нем божество реальностью не обладают, все это — миражи да глюки, и поэты-мамелюки охраняют фикцию, а художники — уже и говорить не хочется. Вот где, оказывается место поэзии.
Такой, некоторым образом, оксюморон: Милитарев, несовместимый с самим собой. Попробуем, однако, справиться с этим противоречием.
Итак, повзрослевший поэт, homo tardus, отрясая грезы юности, отрекается от веры в фетиши культуры. Ложный блеск искусства его более не соблазняет. Ключевое двустрочие «английского» сонета, поднятое на один катрен, расставляет вещи по местам: опыт реальных страданий делает искусство «лишним шумом». Ибо искусственность искусства не может конкурировать с подлинностью жизни. Таков тезис.
Боюсь, что тут упрятана ошибка. В рассуждении пропущено важное, скорей всего — решающее звено. А именно — жизнь не сводится ни к событиям, ни даже к страданиям. Есть еще одна вещь, принадлежащая бытию, как сказал бы древний мудрец. Это вся полнота внутренней жизни личности, бытие духа, которое не может быть овеществлено и выражено иначе, нежели в поэтическом слове или зримом образе. Вот почему ученый-этимолог начинает сочинять стихи. Вот почему ни поэзия, ни какое-нибудь другое искусство не может «знать свое место»: такого места нет. Места многочисленны и разнообразны, они вольно дрейфуют в пространстве жизни и культуры. Постоянно только присутствие.
Милитарев — с подаренным ему богатством и многослойностью внутренней жизни — прямое опровержение его собственного тезиса. Опровержение особенно убедительное в своей напряженной полноте. Да, есть прекрасные поэты, которых достаточно читать. Но Александр Милитарев принадлежит к другому классу — тех, кого необходимо перечитывать.
« Открытье требует отрытья ».
Пало Алто, 2010
Е. Б. Рашковский
Историография понимания
Обсуждать, что мне, философствующему московскому дятлу, Евгению Борисовичу Рашковскому, лично понравилось, а что не понравилось в поэзии Александра Юрьевича Милитарева — не самая интересная из задач.
То, что поэт Александр Милитарев состоялся, это и дятлу понятно. А вот что самое, на мой взгляд, интересное, — то, что состоялся он в противоестественной (казалось бы) личной унии поэта и ученого.
Люди ученой братии часто пишут стихи. И чаще всего — неудачно. Стихи получаются вялые, назидательные, непонятно к кому обращенные. И это едва ли удивительно.
В труде ученого существуют мгновения «парадигмальных прорывов» (Томас С. Кун), мгновения «спонтанных интеграций» внутренне слабо соотнесенных между собой дискурсивных и образных потоков (Майкл Поланьи). Но б ольшая часть осознанной жизни ученого — это мучительный, постепенный и рутинный процесс учения (на то он и «ученый»). Учения у материала собственных исследований, у предшественников, у непосредственных воспитателей, у коллег, у самого себя, нередко даже и у учеников. А уж после того, как падет на голову апокрифическое ньютоново яблоко, — мучительный труд над «головоломками» формализации, подбора категорий, теоретического выстраивания, внятного соотнесения собственных данных с тем, что делали до тебя или рядом с тобою другие.
Воистину, «наука умеет много гитик», и каждая из ее «гитик» подлежит — по мере возможностей, по наличию дискурсивного, полевого или лабораторного инструментария — уяснению, обсуждению, оспариванию.
Тот, кто знает поэзию изнутри — будь то сам поэт, будь то даже умный ученый-филолог, — может порассказать о том, что и в поэтическом труде присутствуют многие рутинные и технологические процессы, связанные с работой над рифмой, ритмом, размером, звукописью, с оттачиванием и контрастностью чередующихся мыслей и образов. Но всё это — на втором плане. Технология — как бы личное дело поэта, а также — некая res publica для немалочисленных спецов-филологов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу