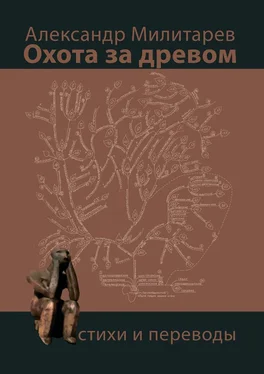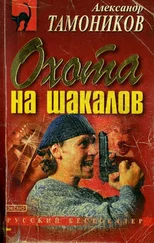Прирос под старость публикаций весом
в три с половиной тысячи страниц,
стал в чем-то первым (пусть сочтет хронист,
я расплевался с этим интересом).
Дочь, внучка чудные есть. В позднем браке сына
родил. Он болен. Держат медицина
да Бог — путем лекарств и операций.
Прошел с ним первыми кругами ада.
надежда есть. Мне ничего не надо,
как только к тельцу теплому прижаться.
В ситуации, когда любовь, страх, надежда, усталость, бессилие и новые порывы любви смешиваются и сменяют друг друга, возможно в одной строке доверяться Богу, а в другой, тут же, рядом, отрекаться от него. Сонет, датированный маем 2008 г., заканчивается строками, отсылающими к известной, давно странствующей по миру мифологеме о чудесном младенце и его особом предназначении:
И только ведома Творцу
в земном сценарии великом
роль, что доверил он мальцу
с терпением ангельским и ликом .
Непосредственно следующий за ним сонет, датированный тем же маем — о Иове, который удовольствовался новыми детьми взамен погибших — заканчивается грубым бунтом, чей вызов усилен сниженной, блатной лексикой:
Я в суперпахана не верю.
Кто в кровь учил меня морали?
Это «в кровь» отдает феней в законе еще сильней «пахана». Однако тут же — вот он, метод сухой кладки! — следует максима из другого мира:
Нет, чем любовь, прицельней цели.
Контекст соседних строк стирает вековую пыль с внутренней рифмы «кровь-любовь», наделив ее новым смыслом, обостряющим контраст.
Затем, снова без перехода — текстологическое сомнение в точности трансляции библейских сюжетов, оно возвращает нас в русло начально заданной теологической темы:
Писцы там что-то переврали.
И, наконец, открытое в своей амбивалентности заключение:
Оплакать легче мне потерю
Тебя, чем смерть теодицеи.
Это об утрате веры .
Он очень непрост, этот Милитарев. Ему непременно нужно знать, почему в мире посеяны зло и страдание. Вот чего захотел, размышляя у постели опасно больного сына… Ему же, больному ребенку, он доверяет развести боль и страдание — в детской картине мира, чья перспектива выстроена с иной, нежели наша, точки зрения:
Но странно знать, что за страданье
судьба, усовестясь, дала
ребенку ангельское знанье:
боль в мире есть, но нету зла .
О боли и страдании Милитарев говорит с пограничной прямотой и открытостью, на грани дозволенного. Чего стоит травмирующий «оборванный катетер», сопоставленный с произвольно раскачанной «петлей судьбы» — двух слов оказывается достаточно, чтобы войти в душную реальность больничной палаты, с паутиной вводящих и выводящих трубок, от которых зависит и не зависит мерцание жизни в детском тельце — но обрыв любой грозит катастрофой.
Конечно, в наши дни за поэзию может сойти и нечленораздельный крик. Но Милитарев — классицизирующий модернист, и потому его личностная открытость приторможена, сдержана, сублимирована, она как бы вязнет в затрудненном чтении — благодаря усложненности поэтической речи парадоксальными столкновениями образов, отсылками к разным культурным кодам, дразнящими герметическими затемнениями смыслов. Так создается особая интеллектуальная чувственность милитаревской поэтики.
* * *
В последнем разделе книги собраны переводы — с испанского (Луис де Гонгора, Рубен Дарио, Мигель Эрнандес) и с английского (Эмили Дикинсон, Эдгар Аллан По, Луис Симпсон, Ричард Уилбер). Тут все должно быть наоборот: говорение от первого лица запрещено, искусство стихосложения подчиняется искусству перевоплощения. На самом деле, как известно, поэзия непереводима. Поэтому так называемый поэтический перевод антиномичен по своей природе, его центральное понятие — понятие эквивалентности — двусмысленно. Текст перевода стремится приблизиться к оригиналу — такова идеальная цель. В то же время любая попытка сказать то же на другом языке агональна, переводчик, хочет он этого или нет, вынужден состязаться с автором.
Вот случай, когда переводчик сознательно принимает вызов.
Эмили Дикинсон начинает свое стихотворение:
Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed.
А Милитарев переводит:
Лишь тот знаток удачи,
кто вечно мазал в цель .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу