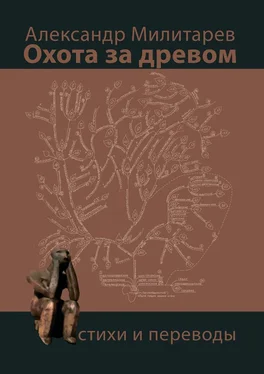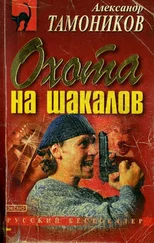«Из окна, разбитого когда-то…»
Из окна, разбитого когда-то,
с поезда, готового уйти,
ты коснулась головы лохматой,
чтоб хранить тепло ее в горсти.
Поезд выползал из поля зренья
медленно — помучить и продлить.
У тебя железное терпенье —
так махать рукой и так любить.
Вот и все. Он стал един с кустами,
с горизонтом, звездами в ночи…
Вот теперь ты вспомнишь, что устала,
те часы с наручными сличишь,
сядешь в мой вагон, и как чужая…
Мы — свои, случайный спутник мой:
и меня сегодня, провожая,
тронули горячею рукой.
«Замирало. Как за каплей капля…»
Замирало. Как за каплей капля
от стола к раскрытому окну.
И застыло. Это было как бы
смена тишины на тишину.
И пока в ответ, как гроздья с ветви,
распрямлялись и росли шаги,
слушал я, как слушал песни в детстве,
тишины теченье и изгиб…
На мысках настраивались шумы,
я кивнул — партер и дирижер —
и опять свободно стало думать
и продолжить тихий разговор.
«В час, когда боюсь, что стал я…»
В час, когда боюсь, что стал я
взрослым — жестче и грубей,
я свои пластинки старые
поднимаю из глубей.
Пыль щекою с них снимаю
и гляжу на черный круг,
и до боли понимаю,
что поет мне детский друг.
Черный, плоский друг старинный
круговой вершит полёт…
Только слишком уж глубинно,
слишком тихо он поет.
Мы на пляже живем
возле Моря Беды —
о, любовь на горячем песке!
Баттерфляй… волейбол… босиком у воды,
и пиявкой прилив на мыске.
«Как часто мы меняем ногу…»
Как часто мы меняем ногу
под чей-то шаг,
под чей-то шаг
и принимаем за дорогу
лишь ветра свист, лишь свист в ушах.
Так пусть не я.
Пусть кто-то сотый,
чей шаг замешан на камнях,
за тем, за лобным поворотом
перешагнет через меня.
«Пусть дождь, прорвавшись в омута…»
Пусть дождь, прорвавшись в омута,
в рябых кругах, как сыр, распродан:
воды еще — и в рост не встать,
а мы уже не ищем брода.
«Не по тому вызывают списку…»
«Не по тому вызывают списку».
Говорят, что это — игра случая.
И живут никому не нужные люди,
И сами это понимают.
А вы говорите, что это — игра случая.
Но когда Ахилл
выбирал одно из двух,
он знал, что делал,
и надевал на правую и на левую ногу
одинаковые сандалии.
Кроме того, тогда
жизнью и смертью человека
заведовали боги.
«Хоть с неба снег, как снедь, вершил…»
Хоть с неба снег, как снедь, вершил
все проводы и встречи,
и безбилетный пассажир
отмечен даром речи.
И не глуши как колесом,
как фарой ни расталкивай,
вдруг переменится лицом
гражданка до Останкино,
когда взглянув — приняв причем
по темноте за магию —
вдруг рухнет взглядом за плечом
в колодец с дном бумагою…
«Переводятся драгоценные камни…»
Переводятся драгоценные камни.
Преподносят смущенные парни
кольца с изумрудными цветами
из зеленой бутылочной тары.
Радуются стриженые женщины,
не кривятся в усмешки желчные,
надевают к браслетам из жести
нежно-желтый фальшивый жемчуг…
Наши строки — из той же области,
и, насколько я в этом смыслю,
слишком тесными стали скорости
для неспешной огранки мысли.
Но с годами неровности разные
ювелирами объективными
со смертельно острых алмазов
огранятся в бриллианты и библии.
Против времени все бездейственно,
и поэтому без раздраженности
я гляжу, как мы гордо и девственно
носим дутые драгоценности.
«Я сегодня думал о Верлене …»
Я сегодня думал о Верлене —
что так мало я читал его.
Думал, как истаивает время
развеселым словом «ничего!».
И представил в шутку, как на склоне
этой жизни, странной и смешной,
в той пивной Верлена грай вороний
каменеет зорко надо мной.
И ища в моей квартире рифмы,
ту же скорость не всерьез кляня,
помолчит небитый и небритый
парень, не читающий меня.
«Слышишь: отзвук сильней…»
Слышишь: отзвук сильней
в гулких спинах камней —
эхо взвитой крещендо тревоги?
Это presto гремит
обожженных копыт
над разгневанным ритмом дороги.
То тревожный закат
бьет в багряный набат,
разрастаясь в пожар поднебесный.
Взвихри бег, торопись!
Я сомну тебя, высь,
и швырну в придорожные бездны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу