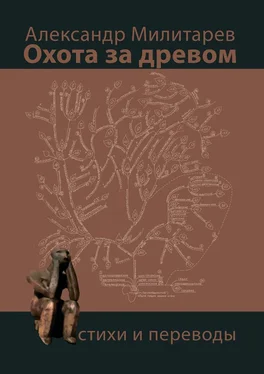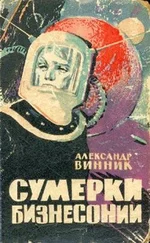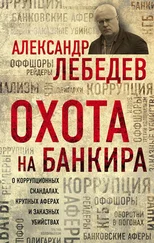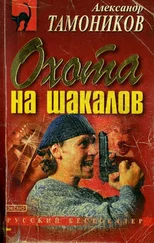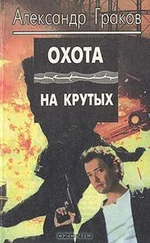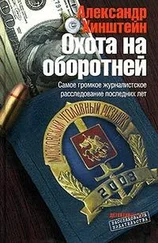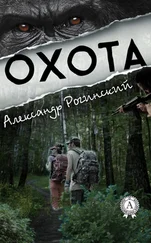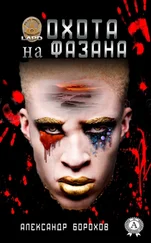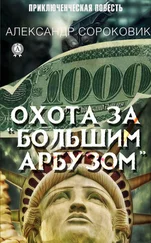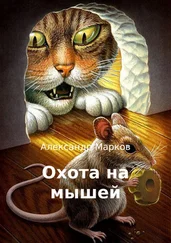…Читать стихи Александра Милитарева, не заглядывая в авторские примечания («Инанна — шумерское женское божество; соответствует аккадской Иштар». Или: « Тигот — на канарском диалекте [! — М.Г] острова Пальма «небо»; вероятно, [!! М.Г.] родственно берберскому « таввут » — «дым») — повторяю, читать эти стихи, не заглядывая в примечания, — не стоит. А стоит — заглядывая.
Чуть ли не впервые в русской поэзии с бальмонтовских времен. Прием? Прием.
Постмодерн, скажете? Ну-ну… А если обратиться к рифмовке с редукциями гласных и выговариванием слогов согласно народной орфоэпике: «недолог — волк» — «кинолог — долг»; или кинуть взгляд в отлично отделанные переводы Эмили Дикинсон и Мигеля Эрнандеса, но, особенно, присмотреться к новому «Ворону» старого Эдгара По, где каркается «не верррнуть», — то понятно, что поэт настоятельно требует внимания к своим трудам, которые в остальном, конечно, просто изрядные московские стихи, но много ли осталось за пределами интереса этого самого «в остальном»?
Иерусалим, июль 2004
Несонетная у нас жизнь — это факт, впрочем, попираемый упрямым поэтом. Все прошло, миновали жанры, роман стал похож на драму, а поэма — на стенограмму, изменилось время — а сонет все хранит свою искусную форму такой, какой она была при суровом Данте или нежном Петрарке. Да только кто нынче пишет сонеты? Я хочу видеть этого человека. И вот я вижу его стихи, присланные, как ему угодно было высокопарно-модернистски выразиться, «по паутине». Сонет у современного/несовременного упрямца — как заявка на традиционность, на преодоление трудной формы, но и как настойчивое отстаивание права пребывать —«здесь и теперь» — в некоей из чьей-то там драгоценной кости сделанной башне, обитатели которой поразбежались со временем в разные стороны (некоторые — в сторону иных, лучших миров).
Об этом направлении побега поэт говорит много — и в сонете памяти Мандельштама, очевидного патрона этой лирики, который сам, впрочем, не жаловал сонет (ну разве когда переводил из Петрарки), и в как бы полу-итоговом, подбивающем промежуточные счета собственной жизни сонете «Не меден как грошик и щит» — о благе неведенья дня и часа, и в сонете «Не научились даже умирать», обращенном к потомкам бродивших по пустыне сорок лет (эти сорок как будто вообще становятся отмерянным «сроком», временем жизни). Превращение сорока лет поколения пустыни в «срок» дается поэту легко — следует всего лишь убрать лишнюю букву и прочесть этот смысл. Но в русском языке слово «срок» неоднозначно, и потому позволительно истолковать его, добавив лишь глагол из тюремного лексикона «мотать», как срок тюремный, где тюрьма — пребывание в несвободе той жизни, которая дана (об этой несвободе тоже много: «тельник голодранца», «лямка», «докажи им немой что не волк», а о ее преодолении — хоть и немного, но — достойно: «А что никто не вышел в дамки, / так это было западло»).
В возвышенную сонетную форму врываются смыслы, там прежде не обитавшие: пересылки , бараки, расплевка, рыла, баланды . Иногда они сплетаются здесь с чем-то совершенно для себя невозможным, порождая оксюмороны: баланда — с чечевичной похлебкой, библейской ценой первородства; расплевка — с музой, рыла — с Босхом, а барак оказывается в соседстве с верой и роком , видимо, в силу фонетической близости, как бы гарантирующей семантическую. Иногда же эти сближения имеют реальное обоснование, и на них поэт-этимолог лишь указывает (Аврам и «арам, кочевник»). Напряжение смысла стиха усиливается приведением народной и научной этимологий библейских имен ( Исраэль — борющийся с Богом, по народной, Бог защитил, по научной), придающим и то еврейско-русское удвоение, или двойственность, которые вообще присущи этому поэту. Свою профессию этимолога автор высокомерно (в буквальном смысле: меряя высокой мерой), хоть и иронически, рифмует с «Богом» — а что ж тут стесняться, иронизировать? И барочным, и романтическим поэтам было известно, что мир — это книга, сотворенная Богом, а книга настоящая создается так же, по законам творения (нечто из ничего), по тайным следам смыслов, а потому поэт наделен божественным вдохновением, силой и властью: «Ты Бог — живи один!» — по Пушкину, «Восстань, восстань и вспомни: сам ты Бог!» — по Баратынскому, и уж во всяком случае он никак не меньше пророка.
Тут и иудейские коннотации на месте: «С Израилем певцу один закон: / Да не творит себе кумира он». В этом данного поэта никак не обвинишь — он даже Известно Кого называет за непроизносимость имени «знаменитым анонимом», обвиняет в неправоте, заступаясь как истинный последний рыцарь за сестер по классу поэтов («О, Боже правый, ты не прав»). Что уж говорить о других! В «Стихах о русской поэзии ушедшего века» предстает его избранный литературный иконостас, с каждым из персонажей которого (Цветаева—Ахматова—Мандельштам—Пастернак—Бродский—Брюсов—Блок—Хлебников—Белый— Маяковский—Есенин—Гумилев) поэт без излишнего пиетета, хотя и с горьким сочувствием-пониманием, ведет диалог о судьбе, очень русской судьбе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу