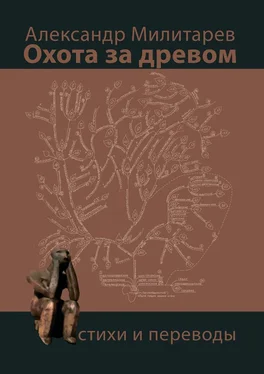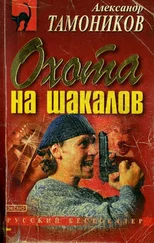Его собственная двойственность («не здешних лесов наше древо») побуждает размышлять «о причине зачем еврей», но постепенно, по мере погружения в тексты можно обнаружить, что «судьбе-индейке» противостоит «свобода-иудейка».
Что в этих стихах, поэтических комментариях к бытию «здесь и теперь», которые критик отнес бы к экзистенциальной или философской лирике? Тут и драма жизни, сродни античной трагедии, толкующая старую метафору «жизнь — это театр» на новый лад — с номерком в штанах, с закрытым на вечность гардеробом; и драма принадлежности к избранному народу, оставившая «вывих бедра» и покинутость отцом, о котором так трудно помнить, не веря; тут и вечная (длиной в жизнь) драма «русской» жизни. Эта драма представлена как драма судьбы, так сказать, в стоически-фаталистической оркестровке, с точными приметами места действия («не верь, не бойся, не проси», «где жизнь ни в грош покой не дорог / все маета»), чувства к которому амбивалентны («спешу вернуться в край любимый… с его шальной невыносимой родной судьбой»), с известным концом («А конец, он един на Руси — кол осинный в причинное место»), с надеждой прояснить смысл всего этого — там, после («нам ведь скажут зачем это было»). Амбивалентность отношения к месту, порту приписки порождает в стихе оксюморонные сочетания слов, означающих кошмар и миф («в кафкин китеж лечу домой!»). Не потому ли эти смыслы вкупе столь притягательны, как все, что гибелью грозит и для сердца смертного таит неизъяснимые наслажденья? Может быть, залог бессмертья? Соблазнительной, невыносимой («неодолимой») легкости бытия в прекрасной Франции поэт обречен противопоставлять свою «смертность» на Востоке, который «горит» в его посвященном И. Смирнову сонете — не как цветаевская ли рябина? (Цветаева окликается поэтом не раз: то проходит в слезах — и в петлю в «Стихах о русской поэзии ушедшего века», то у нее заимствуются слова для оценки другой, современной поэтессы — «Твоим стихам, написанным не рано…»).
В этих стихах есть развалины Йерихона, есть «оркестрик», приехавший из Окуджавы, перевозчик мертвых Харон, кони фараона, есть один из народа, которому суждено размножиться, как «песок морской», есть мандельштамовская «египетская мощь и христианства робость», тут смешение времен и пространств, стилистических слоев, устроенное по воле одного живущего то ли «здесь и сейчас», то ли в библейские времена, то ли еще где-то и когда-то поэта, который озабочен лишь тем, «чтоб снять табу еще до смерти / с запретных рифм, с заветных тем».
Борис Бернштейн
Выходя из берегов
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели
Мандельштам
Почему ученый-лингвист пишет стихи? В любом случае этот вопрос распадается на два.
Первый: почему ученые-лингвисты не пишут стихи? Им, постоянно работающим с языком, дано особое понимание и чувство слова — и искушение стихотворством должно быть велико. Но именно профессиональное понимание и чувство слова, видимо, задает такую меру вкуса и самокритики, которая сдерживает творческие порывы. Я знавал коллег-искусствоведов, которые не могли утерпеть, писали картины — но тайно, никому не показывая.
Отсюда второй вопрос: почему этот ученый-лингвист, Александр Милитарев, пишет стихи и даже их публикует?
«Стихам о русской поэзии ушедшего века» он предпослал эпиграф, взятый из собственных юношеских опытов. Эпиграф серьезный, вот он:
Поэтов русских высота,
полет — стены отвесней,
и тень погнутого креста
над лебединой песней
Поэт, кажется, появился прежде чем ученый-лингвист. Впрочем, кто в юности не писал стихи. Даже хорошие. Дело в другом.
Просто есть ученые, которым с головой хватает своей науки. Но есть ученые, обремененные интеллектуальным избытком; его приходится избывать. Случай сводил меня с такими. Евгений Львович Фейнберг, выдающийся физик, написал глубокую книгу об искусстве — и не просто об искусстве, а о том, что такое искусство. Борис Викторович Раушенбах, знаменитый ученый-ракетчик, в расцвете своего таланта занялся проблемой пространства в средневековой живописи — и написал целую серию работ, одна другой интересней. Да, оба писали прозой, и то, что написано — не искусство, а об искусстве. Но мне видятся тут частныe случаи общего феномена ученой избыточности. Она возникает не только за счет интеллектуального аппетита, но и в результате мыслительного опыта: полагая, что до истины можно добраться, привыкнув вникать, рано или поздно задумываешься о смысле «всего этого». Так образуется энергия, которая заставляет выходить из берегов. И вот — Александр Милитарев садится и пишет книгу «Воплощенный миф». Эта книга, скажете вы, не о смысле «всего этого»? Но все-таки, все-таки, не говорите, смысл притаился где-то за углом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу