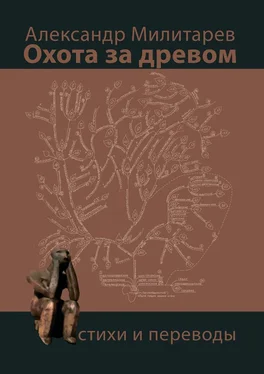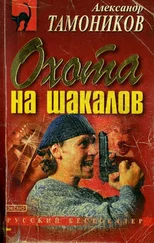Я помню ночь: от створен Рая
шагов громада в темноту.
Чем только не мостил ты, Каин,
свою безмерную версту!
Твое паденье не случайно —
таков сценарий был Его.
Ты шел пустыней, различая
все зори тракта своего.
Ты жег на жертвенниках падаль,
как Авель, был ты прост и чист
и отдыхать на трупы падал,
как крови брызг на белый лист.
Но ты был первенец и пахарь,
знал цену поту и плодам.
Со дня того пошел он прахом —
еще не возведенный храм.
О, вер краеугольный камень —
спина шестиугольных звезд,
ты, каинов немых руками
веками паханный погост!
Из пыльной были вед и библий,
коранов и буддийских книг
тебя с подножья подрубили
мотыгой каинов твоих.
…Век ртов раскрытых перелистан,
и боги стендами стоят,
стал Каин тихим атеистом
и снова Авелю он брат.
Но он еще по службе — пахарь,
и пусть он прост, и пусть он тих,
он с новых жертвенников падаль
собьет и схватит хряский стих,
и так рванет дубьем тяжелым
по веткам, ветхим, как тряпье,
что упадет на землю
жёлудь
и оплодотворит ее.
Мы вылезаем из пеленок,
насквозь застиранных земных,
от гроз и плесени зеленых,
от глаз и крови голубых.
Громада плеч взрывает небо,
пушинка рвется в высоту…
Тот, кто там был,
и тот, кто не был,
мы — тело сваи в том мосту.
И ты, кто первый принял визу,
ты, облученный гнилью фраз,
ты — бог для тех, кто смотрит снизу.
Неважно — кто. Не в первый раз.
Но пусть, заплеванный стихами,
где все — вранье, все не о том,
не с первой добровольной казнью,
открытый в ночь, укрытый днем,
двойной орбитой опоясан,
опять — тем чище, чем грязней,
ты все же грозен и прекрасен
наш первый бал в голубизне!
Я знаю: утром — синей птицей,
мажором, режущим грозу,
начистоту мне будет сниться,
что было Там,
а не внизу.
Апрель 1961, Москва
«О, старосты, которых назначают!..»
О, старосты, которых назначают!
до старости вам это не прощают.
Вот первый день мы входим в институт —
кого-то этим словом назовут?
Как надо тонко по анкетам выверить,
чтобы назначить тех, кого не выберут.
Я знаю, командиров назначали
из тех, что не успел наш Людоед
угробить со своими палачами
в то лихолетье предвоенных лет.
Но явным и прямым голосованьем
на скатерти из выжженной травы
их выбирали тем, что в рост вставали,
и не всегда по списку из живых.
А мы живем, когда дракон, нажравшись,
спит благостно, прищурив зоркий глаз,
и бургомистр, в анкеты закопавшись,
ген ланцелотов в страхе ищет в нас.
1961 г., Москва
Отклики на стихи и переводы автора
Мне нравятся стихи Александра Милитарева.
Оформленным и отчетливым фактом «сближения далековатых понятий».
Простодушием поэтического переживания, того самого переживания, каковое и есть единственный достойный повод к сочинительству поэзии. Такой поэзии и только тогда Поэзии, когда она не очень даже жанр литературы, но нечто, отнюдь не эфемерное, но именно почти физиологическое; вроде ликования, печали, наслаждения.
Вот этой вот искренности, непосредственного поэтического импульса к сочинительству у профессора-лингвиста, у мирового уровня авторитета в области языкознания — не менее, ей богу! чем в сочинениях пятнадцатилетнего графомана модели пубертатной Цветаевой или Блока Александра эпохи поздней гимназической, или воспаленного негой современного лицеиста машиностроительного, пардон, лицея!
Ну, например: журавлиная стая, она что делает? Правильно — журавлиная стая, как положено, улетает… Однако — внимание! Сонет, а это безупречный сонет работы профессора Милитарева 1992 года сочинения (ну, право, кто ж это будет в зрелости катать классические сонеты в конце 20 века из серьёзных-то, прости-господи, наших господ постмодернистов?) — так вот, цитируемый сонет посвящен другому известному филологу И. Смирнову и:
«И птиц грассирующий клин
в табличке неба — знак зимы»
Правильно! Клинопись занятие сугубо профессорское.
Ни графоман, ни даже любитель, ни даже средний сочинитель не способны во сне увидать ни «напитанную вермутом звезду», ни сообщить городу и миру всерьёз: «я быть устал».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу