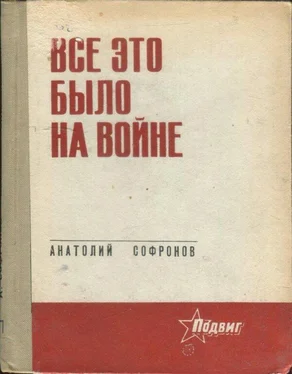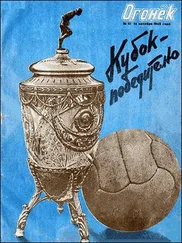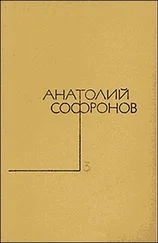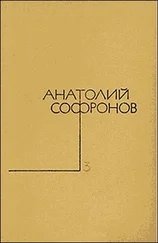От страха становился кос,
К земле придавленный, горбатый;
Меж сосен липких и берез
Сидел с трофейным автоматом.
Трофейный этот автомат
Он выпросил у лейтенанта,
Когда поймали шесть солдат
Из парашютного десанта.
Он будет, верно, дольше жить,
Чем рук его сухих творенья,
И будет с ним, как тень, ходить
Погибших и живых презренье!
«Командир, командир, впереди селенье,
До него пустяк остался, полверсты.
К немцам мы идем, как привиденья,
Через малорослые кусты».
«Командир, командир, что-то руки стынут,
От мороза пар — как свечка, только не горит…»
«Тише, тише! Слышишь, возле тына
Кто-то по-немецки говорит?»
«Командир, командир, это часовые.
Есть — гранаты к бою! Самая пора…
Ходят, черти, возле штаба, да еще живые,
Только не дожить им до утра!»
«Командир, командир, я иду за вами.
Как гранату я по ним метну —
Им уже не скрыться за домами,
Не уйти в немецкую страну».
«Командир, командир, напиши мамаше,
Напиши в станицу маме письмецо…
В нем скажи, что в час атаки Саша
Никогда не прятал от врага лицо…»
«Командир, командир, вот моя винтовка,
Выпусти патроны в немцев, бей их за меня!
Командир, команди…»
Папиросный коробок
С маркой города родного,
Синий ласковый дымок…
Мы с тобою из Ростова.
Из Ростова-на-Дону
Шли мы вместе эшелоном
На священную войну
По полям родным, зеленым.
Прикрывая огонек,
Ночью, темной, фронтовою,
Сколько раз мы у дорог
В соснах прятались с тобою.
Часовые на посту,
Да шумели глухо сосны,
И стремился в темноту
Дым ростовский папиросный.
Сколько было в дыме том
В тишине воспоминаний:
И родимый старый дом,
И по улицам скитанья.
Но когда алел восток,
Уходила тень ночная,
Исчезал в траве дымок,
Черным дымом закрываясь,
Дымом смерти и войны
И священной нашей мести,
За которую сыны
Стали в ряд с отцами вместе.
Новый день и новый бой,
Над гречихой мины свищут…
Так мы шли всегда с тобой,
Мой земляк и мой дружище.
Папиросный коробок
С маркой города родного,
Синий ласковый дымок…
Мы с тобою из Ростова.
Все запомнится, все без остатка:
Самолета полуночный гром,
Среди сосен лесная площадка —
Партизанский аэродром,
И костры на снегу — нет им счета,
И ракеты зеленый огонь,
И последняя дрожь самолета,
И железная чья-то ладонь,
И объятий мужская суровость,
Затаенный дымок папирос,
И какая-то важная новость,
И какой-то случайный вопрос.
Все запомнится, что б ни случилось:
И сожженные столбики верст,
И молчанье над снежной могилой
Среди белых, как свечи, берез.
И прощанье товарищей — ночью,
Предвещающей встречу с врагом,
И на соснах — неведомый почерк
Пулевые отметки свинцом!
Заметенные снегом тропинки,
И на соснах, как шапки, — снега,
И в землянке на стенах картинки
Довоенного «Огонька».
Все запомнится, все без остатка,
Сохранится навеки любовь —
Не на белой от снега площадке,
Мы на площади встретимся вновь.
Мы обнимем друг друга, узнаем,
По глазам прочитаем о тех,
Кто когда-то протаптывал с нами
Сапогами нетронутый снег.
Ночь, Село. Метель метет.
Пост фашистский у колодца.
По-немецки раздается
Хрипло, глухо: «Кто идет?»
Кто идет? Кому тут быть?
Кто покой ночной тревожит?
Кто такой шататься может?
Это можно объяснить!
Но не криком, но не словом —
Пулей, посвистом свинцовым,
Тяжкой русскою гранатой,
Метко пущенной за хатой.
Это можно объяснить!
Но кинжалом и ножом,
Что для ката бережем,
Что для ворога лелеем,
Не скупимся, не жалеем.
Это можно объяснить!
Но не долгими словами,
А железными руками,
Что на горле узком вражьем,
Как петля, что не развяжешь.
Ночь. Село. Огни вдали.
Труп фашистский у колодца.
Крик за криком раздается:
«Кто идет?»
«Мы пришли!»
Читать дальше