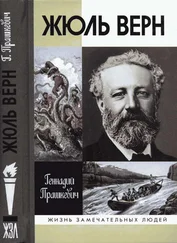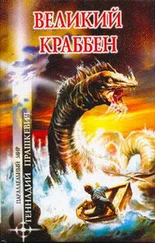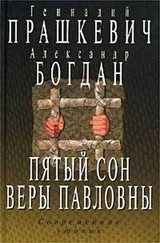На снегу
черный след.
Берегу
твой ответ.
Он неясен,
но я знаю —
мир прекрасен!
И как в мае,
я зароюсь,
как в листву,
в твою жизнь,
в твою судьбу.
Вызвездило.
Снега хруст.
Пригвоздило
тенью
куст.
Я мечту нашу большую
берегу на берегу.
* * *
На склоне стольких лет
пращой в ответ: «Прощай!»
Единственный совет:
«Забудь! Не приезжай».
По рощам стелет след
пороша,
вороша
заезженный портрет
замерзшего дождя.
А ветер злобно бьет
в стеклянные зрачки,
где намерзает лед
обидных слов и притч.
И под твоей рукой,
от боли завизжав,
калитка мнет покой,
тоскою сумрак сжав.
И спазмы горло жгут
резиновым жгутом.
И все-таки я жду:
вдруг снег пройдет дождем,
вдруг ветер вкось влетит
в оцепеневший сад
и сразу прекратит
метельный
снегопад.
* * *
На дворе дворники
говорят: «Снега…»
Этот древний спор никак
опять о двойниках.
А снега прозрачны,
а снега призрачны.
Шелестят о счастье
звезды светом призм ночных.
Кто я? Вестник чьих
слов? Как отвечать?
На площадках лестничных
страшно встречать
тень твою и спрашивать:
по какой причине
сумерки донашивают
черные личины?
О весенних лужах
думать не хочется.
Только снег нужен
ветром всклокоченный.
Средь снежинок звездных
нахожу звезду мою,
о которой в грозные
только ночи думаю.
* * *
А она говорила: «Плохо…»
и хотела плохой казаться.
Даже снег почернел, как порох,
от подобного святотатства.
Говорила: «Не жди последствий,
ах, пора тебе измениться!»
А проверили – это детства
бьют серебряные копытца.
На поверку все мы иные,
удивляемся больше сами:
почему вдруг пути кривые?
почему вдруг чужие сани?
Но ошибки, конечно, наши,
потому что под небесами
в сани судеб мы не посажены,
а садимся всегда в них сами.
Наследник Гумилева и Ахматовой,
в лесу, где тропы выбиты сохатыми,
под крышей деревянного сарая
лежал я, ничего не понимая.
Махорочные струи, извиваясь,
в небритую щеку меня лизали,
и плавали, густые и бесшумные,
как плавают меж сосен тени лунные.
«Тяни, братишка!» – требовали плотники,
друзья мои, герои и колодники,
все видевшие, знавшие, умевшие
и за год мне до смерти надоевшие.
Я пил малину с водкой, и, отчаясь,
все это запивал грузинским чаем,
и хлеб жевал с привычным отвращеньем, —
о, только бы приблизить возвращенье!
Как долго от тебя ни слов, ни писем!
Как подло мне сквозняк тебя расписывал!
Как нудно шелестели снегопады,
свершая свои мутные обряды!
Я засыпал с дымящей сигаретой,
и в сны мои врывался темный ветер,
злорадствовал: теперь не отыграться,
не дотянуться, не коснуться пальцев,
губами на ночь перечтя ресницы,
когда тебе задумчиво не спится.
Но хуже, было хуже, когда жалость
в ночные сны непрошено являлась,
юродствовала, плакала, просила:
«Осина умирает некрасиво,
раскинув растопыренные лапы,
дрожа и задыхаясь на лету;
ты хочешь повторить ее паденье? —
мне жаль тебя. Решайся. Из деревни
к друзьям, к стихам, и к ждущей иль не ждущей,
решайся,
и тебя я уведу!»
…а за окном дробились и кололись
розеточки мерцающих снежинок,
и стыли на заборах злые пятна
замерзшей человеческой мочи.
Над речкой, окруженной, будто глетчер,
моренами берез и стылых кедров,
бесшумными каскадами струился,
синел и испарялся лунный свет.
В его глубоких ласковых разводах
мелькали тени – призрачно, прозрачно —
и так же непонятно исчезали,
чтоб снова появиться над рекой.
Над лесом поднималась крыша школы,
в которой ничему нас не научат,
но в окнах школы билось злое пламя —
впервые посмотреть на этот мир.
Под вечер дымкой покрывало снежной
дома, дороги; уходя на берег,
я видел камни, между ними билась
и клокотала черная вода.
Криноидей сияющие сколы
песчаник светло-серый испещряли,
как буквы, – те, что ты не нашептала, —
они остались в камне навсегда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу