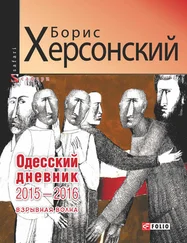Совсем как этот старый книжный шкаф,
хранилище бутылок и картонок.
Посереди двора стоит ребенок,
к пустому небу голову задрав.
"чем болотистей почва тем громче кричит кулик…"
чем болотистей почва тем громче кричит кулик
чем когтистее лапа тем суровее лик
весело скачет по стенке солнечный зайчик блик
под стенкой железная койка
на кухне идет попойка
жена сказилась чуть водка так сразу в крик
чуть водка чуть стопка полным ртом голосит
кабы крик был еда был бы криком сыт
а так любовная лодка разбилась о пьяный быт
ворона сидит на ветке
селедка лежит на газетке
покойница мама в рамке висит чуть вправо косит
был ведь парень как парень до армии как любой
так взяли в афган с размаху швырнули в бой
из боя выход в цинковый ящик или в запой
видать не хватило цинка
или с пулей вышла заминка
Лета впадает в житейское море, как
Волга в Каспийское, разделяясь на рукава.
Рыбы плывут вслепую, путаясь в плавниках.
Жизнь такова, впрочем, и смерть такова.
Рельеф подземного мира однообразней, зато
более безопасен, и уже не сулит
наводнений, землетрясений – вывернутое плато.
А в Лету вторично не вступишь – так завещал Гераклит.
Так учит нас философия, сжатая до одного
банального предложения, до нескольких бранных слов.
Поймав в Ахеронте рыбу, рыбак говорит: "Ого!
Я видел такую в детстве, в одном из кошмарных снов!"
"Красавицы, как вы ни хороши…"
Красавицы, как вы ни хороши,
но жить не согласитесь на гроши,
что брошены презренному писаке,
а потому унылый гонорар
он сам проест, не бросив кость собаке,
особо если немощен и стар.
Вот он сидит за письменным столом,
щелкáя пишмашинкой и греблом,
не думая о знаках препинанья
и правилах грамматики, пока,
пересекая сущность мирозданья,
как срок тюремный тянется строка.
Над ним висит его фотопортрет,
двумерное свидетельство тех лет,
когда гуляли парой серп и молот
(где наковальня? или просто рожь?).
Режим был стар, зато поэт был молод,
но знал, что изреченное есть ложь.
Красавицы, как вы ни хороши ,
но лучше одиноко жить в тиши,
раз в полчаса тебя тревожат боем
часы, вращая стрелки невпопад.
Раз в месяц можно жизнь прервать запоем,
а из запоя выходить в горсад.
Красавицы бесспорно хороши,
но лучше перегаром не дыши
в овальные трепещущие ноздри, —
отпрянут девы, верхнюю губу
поджав, они простить debita nostra
не могут ни в постели, ни в гробу.
Ты сам гораздо хуже, чем они,
но часто бес в ребро шептал: рискни!
Не камень – сердце, не доска – сложенье
младого тела, и язык шершав,
и перси нежные в минуту вожделенья
вздымаются, как в эру сверхдержав
ракеты из секретных темных шахт.
Но взгляд очей надменных – как ушат
воды холодной, хорошо не грязи,
не выйти из романа без потерь…
А были дни. Палатка на Бугазе…
Но что об этом толковать теперь?
"К примеру, узнаешь, что подружка из прошлых дней…"
К примеру, узнаешь, что подружка из прошлых дней
сейчас в Европе и даже в парламенте, двое детей,
замечательный муж, а другая спилась и давно умерла,
а ведь вместе пили "Алиготе" из горла.
Но я поперхнулся и бросил, она допила до дна.
Была бездетна. Последние годы жила одна.
В обеих было нечто восточное – в лицах и паспортах
с известной графой. В черноморских портах
дети разных народов засыпали в обнимку вдвоем.
А перед этим пили и пели, теперь уже не поем.
Теперь уже не до песен – освобожденный труд
и старость скоро всех в порошок сотрут.
Подушечки пальцев помнят их кожу. Очертания тел
сохранились в памяти, белы и мертвы, как мел,
лежащий на черной школьной доске в желобке,
но думаешь о сосках и волосках на лобке.
О том, что ты был мерзавец. Да и они еще те.
И одевались неплохо при тогдашней-то нищете.
При тогдашней-то нищете! Но никакого нытья,
"Лучше месяц не буду есть, но куплю шмутья".
И шмутье лежало вповалку на туркменском ковре,
а тела где-то рядом сплетались в любовной игре.
Мы сменили Эрос на Танатос – в разных районах. Так
живут на окраинах, вспоминая подвал и чердак,
в самом центре жизни. На плитке чайник кипел.
Я сидел с гитарой и пел. Да, что-то, кажется, пел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

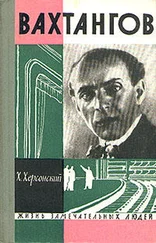

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)