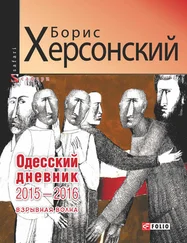Но никто не грустит, смех звенит, бокалы звенят,
гимназистки целуют прощальных невозвратных ребят.
Чуть заметные усики, глаза полны синевы,
на страничке учебника надпись: "Иду на вы!"
Техника подрастет четверть века спустя.
Пилот поведет стальную машину, лба не перекрестя.
Из брюха бомбы посыплются, словно рыбья икра.
Большая прогулка, маленькая игра.
"Советские дамы с прическами, уложенными в старых…"
Советские дамы с прическами, уложенными в старых
маленьких парикмахерских, работавших при царе.
Жены военных – подтянутых, сухопарых,
на смотрах строящихся в линию или в каре.
Им шили платья по выкройкам старорежимным,
ели-пили они на кузнецовском фарфоре, ложечки —
серебро.
Машинки швейные пахли маслом машинным,
в сундуках пометом мышиным – бабушкино добро.
Все это было наследием эпохи, которую все бранили,
как будто жизнь началась лет пятнадцать тому.
Но царские сотни в чайных коробках хранили.
На всякий случай – а вдруг сгодятся кому?
Вдруг все вернется, как Христос, восставший из гроба,
как корабль из заморских, богатых, неведомых стран.
А с портретов с ухмылкой смотрит товарищ Коба,
говорят, что гений, окажется, что кровавый тиран.
Они теперь – негативы на стеклянных пластинах,
черно-белых, а черное-белое не называть.
Поскольку они невинны, мы никогда не простим их,
не мы их похоронили, не нам о них горевать.
"Каждое утро соседская девочка-слоник поет все ту же…"
Каждое утро соседская девочка-слоник поет все ту же
песню, каждое утро – все громче, все хуже,
не попадая в ноту, перевирая слова.
Впрочем, мотив от фальши хуже не станет,
а текст и перевранный детскую душу ранит,
любовь-морковь, ситуация не нова.
Песик с хребтом перебитым скулит из корзинки.
Собираясь к вечерне, угрюмо из-под косынки
смотрит хозяйка: усыпить – сказал ей ветеринар.
Но тяжелый колокол над головою
напоминает, что все едва живое все же живое.
Как говорится, жизнь не яичница – Божий дар.
Даже если задние ноги едва волочишь,
даже если сам уже ничего не хочешь,
только всхлип и визг, только выдох-вдох,
только пение девочки… Замолчи! Невозможно!
Опять распелась с утра, опять фальшивишь безбожно!
Этот мир невыносим, но не так уж плох.
"Говорят, наши внуки будут читать Пушкина со словарем…"
Говорят, наши внуки будут читать Пушкина со словарем,
как мы – с комментарием Лотмана или
Набокова. И хотя мы к тому времени все умрем,
но увидим это из преисподней через квадратный проем,
сквозь тусклую дымку звездной холодной пыли.
Нас возвратят в наш мир. Вергилий будет поводырем.
Он изъяснит нам, какие дни наступили.
И мы поймем, что прожили жизнь в мире из девяти кругов,
что не случайно в аду их не десять, а тоже девять.
Половодье. Лета вышла из берегов.
По ней проплывают трупы наших врагов,
как в китайской пословице. Если нечего делать,
любуйся ими: они не прощали долгов
и сами заплатят сполна, поскольку закон таков.
Мы встретим рабочего с молотом и с серпом мужика,
с младенцем бабу и с коромыслом девицу,
с автоматом конвойного, с тачкой зэка…
Но как изменилась фонетика русского языка!
Слушаем – не понимаем, не перестаем дивиться.
То кудахтанье курицы, то мычанье быка,
то молчанье ягнят, то скрип половицы.
Речь нераздельна, слитна, в ней нет ни слов, ни слогов.
Ни смысла, ни даже намека. Разумнее – пантомима.
Хорошо, что речка Лета вышла из берегов.
Хорошо, что по ней проплывают трупы наших врагов,
и мы спокойно глядим, как они проплывают мимо.
"По всей долине пронесся слух…"
По всей долине пронесся слух:
еретик Генрих убит!
Плачут грешники: кто растолкует дух
Писания так, чтобы пьян и сыт
был человек, чтобы в жены двух
или трех дебелых румяных баб
брал, коли не слаб,
чтоб валялся в кровати со всеми тремя,
а хрен чтоб стоял стоймя?
Кто объяснит, что особого зла
нет в почитанье хромого козла,
в черной рясе и красной чалме
стоящего на холме?
Не плачьте, живехонек ваш мертвец,
на мелком бесе верхом
скачет он из конца в конец,
сводит с пути божьих овец
поганым своим языком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

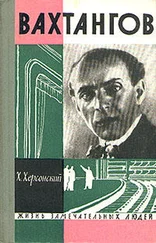

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)