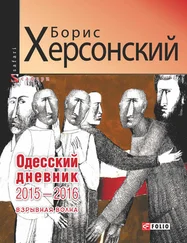"Под светлой сенью сада…"
Под светлой сенью сада,
под круглыми часами,
в слова играть не надо —
слова играют сами.
Всей полнотой созвучий
и всей гремучей смесью,
под летней грозной тучей,
под зимней снежной взвесью.
Всей радугой наречий,
всей силою глагольной,
всей болью человечьей,
всей медью колокольной.
Всем щелканьем и трелью —
бессмертным гамом птичьим,
над люлькой, над купелью,
над царственным величьем.
Над нищетою мелкой
одесской коммуналки,
больничною сиделкой,
учебой из-под палки,
над тишиною склепа,
в котором мир положен.
Игра в слова – нелепа.
И выигрыш – невозможен.
Табурет стоит в центре магического круга.
От круга до неба стена прозрачна, зато упруга.
В нее бьются бесы лбами, отталкивая друг друга.
На табурете сидит пьяный бурсак Хома,
третью ночь сидит, понемногу сходя с ума.
Рядом с ним Николай Васильевич Гоголь – гладит его
по чуприне,
приговаривая: "Козаче, смотри – не смотри, не
смотри, не заглядывай дяде Вию под веки
для твоей безопасности, по-украински – безпеки.
Мы с тобой хохлы, нам и в церкви от покойников
нет покою,
дай поглажу тебя, Хома, своей холодной рукою,
без тебя, Хома, я сам немногого стою,
я и сам – покойник, как, впрочем, и ты".
Над церковью – купола, на куполах – кресты,
над крестами – ночной небосвод: звезды тихо мигают,
да жаль, что ни звезды, ни ангелы людям не помогают,
а черти бьются в магический круг да корчат страшные
рожи.
И как Ты их только терпишь, Господи мой Боже?
Говорит Хома: "Николай Васильевич, брат, оставайся
с нами,
с нашей белой горячкой, нашими страшными снами,
с полями, которые с хрустом разоряются грызунами…"
Спит Хома-хомяк с зерном в защечных мешках,
крестик с иконкой болтаются на ремешках,
на иконке Хома Христу в рану персты влагает,
а Христос все терпит и Хому не ругает.
И ты, Николай Васильевич, все претерпи,
что может с русским писателем случиться в хохляцкой
степи.
Говорит Николай Васильевич: "Я и сам-то не знаю.
Захочу – разгоню дуновением эту бесовскую стаю,
петуха дерну за хвост – полагаю,
что трижды петух закричит до зари,
только ты, смотри, – не смотри!
Я тебе сам себе писатель или писака,
Мне решать, губить или спасать бурсака.
Я творец – писатель, мне решать, где свет, где тьма!"
"Пропади ты пропадом!" – сплевывает Хома.
"Человек или адская машина? – угадай…"
Человек или адская машина? – угадай.
Что там тикает-стучит у него внутри?
Если пульс, то пальцы на запястье и считай,
а не можешь – клетку реберную вскрой, рассмотри:
там-то все его бетонные квартиры-города,
мамки-бабки с набитыми мешками грудей,
все игрушки, даже Маркс и его борода —
настоящая, синяя – все как у людей.
Там запретная дверца, а за нею – склад мясной,
кровяные шарики, пара мятых рублей.
Там вся эта дрянь, что заводится весной,
вылезает из личинок, выползает из щелей.
Микрокосм, едва расплющивающий по утрам
щели, распрямляющий хребет становой.
Тело, нашей души освященный храм,
адская машина, механизм часовой.
""Вот это жизнь!" – подумал воин, пересекая границы истории…"
"Вот это жизнь!" – подумал воин, пересекая границы истории,
вступая на оккупированные территории
героических детских мечтаний, предъявив игрушечный
автомат
и паспорт, гражданство – номад.
Трофейный австрийский аккордеон за спиною в ранце,
поскольку после сражения намечаются танцы.
Лет через девяносто квартиру дадут,
известен домашний адрес: Бородинский редут,
пятый угол, седьмая печать,
но об этом лучше молчать.
Воин едет один в теплушке, в которой лошадок
уместилось бы восемь штук – непорядок!
На душе остается неприятный осадок,
нет рядом товарищей боевых.
Вероятно, они в живых.
Вероятно, пьют, милуются с девками в парке.
Раз в год от собеса получают подарки —
каждому по конфетному целлофановому кульку.
Все равно, кто в каком полку.
А в кульке карамельки и две шоколадки.
Местные девки, известно, на сладости падки.
Не стащишь такую за ноги с солдатских колен.
Был бы жив солдат, он сыграл бы отпетым милкам,
немецким овчаркам, румынским подстилкам
трофейную песню "Лили Марлен"
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

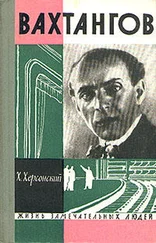

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)