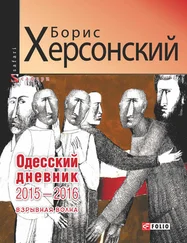Каково теперь тебе без гонений, в неге и холе?
С тяжелыми колоколами, золочеными куполами?
Каково учить второгодников в средней школе,
каково бывшим сержантам быть иноками и попами?
Все равно не втолкуешь ни хлюпику, ни лоботрясу,
что кровь революции в землю еще не впиталась,
не поймут либерасты, для чего игумен на рясу
нацепил за Афган медали – а что ему делать осталось?
Потому что "духи" в горах – не лучше нечистого духа,
тоже Божьи созданья, а резали нас без пощады:
загнут подбородок и сразу – от уха до уха,
ну и мы их убили несчетно – за то и награды.
Потому что за наших – за сотни деяний греховных,
что каждый из нас совершил, паче песка морского! —
все равно помолятся двое первоверховных,
стоящих на облаке, – эти замолвят слово.
И Та, что ходила по мукам и Михаила просила
за христиан заступиться, до прочих дело какое,
знает, что с нами если не Бог, то крестная сила,
и если нас не спасут, то просто оставят в покое.
"Жаркое лето. По Дерибасовской ходит…"
Жаркое лето. По Дерибасовской ходит
первый троллейбус, вагоны старого типа.
По этим признакам понимаешь, что все происходит
очень давно, в июле. Пахнет красавица-липа.
"Большая Московская". Лепнина летит с фасада.
Под балконами не ходить. По карнизу гуляет птица.
Стоит ротонда в глубине Городского сада.
Зеленеют патиной старорежимные лев и львица.
Хорошо живется летом трудящимся массам.
Легкие платья ниспадают от шеи к коленкам.
На каждом углу стоят желтые бочки с квасом.
Говорят, внутри черви ползут по стенкам.
Все, что внутри, всегда темно и незримо.
Все, что снаружи, – освещено и прогрето.
Все, что повторялось, отныне неповторимо.
Разве что запах липы. Разве что жаркое лето.
"Выключить, включить, забыть выключить – это о свете…"
Выключить, включить, забыть выключить – это о свете
в общей кухне, судьбе, коридоре или
о том, что человек всегда один-одинок на свете,
особенно если боги о нем забыли,
как забывают о любом постороннем предмете
под слоем времени, праха, пыли,
среди мрамора, бронзы, или еще – холст, масло,
паволока, левкас, доска, торцевые шпонки,
хорошо горело, потом навсегда погасло, —
это о вере или лампадке у старой иконки,
черный фитиль, до дна закончилось масло,
не слышно тоскливой песни о любимой сторонке —
ни березки тебе, ни дуба на плоской
высоте, ни в Париже – куста рябины,
ни заката, что догорает рдяной полоской,
ни каравая-хоровода на именины,
ни революции, накрытой окровавленною матроской
расстрелянного наследника, ни папанинцев, снятых
со льдины.
Расстреляв врага, палач дымит папироской.
Враг еще дышит под серым куском холстины.
Не посрамите, чада, немеркнущей славы росской.
Пощадите мои седины.
А не хотите щадить – машинкою от затылка
состригите под ноль, под завязку, до самого синего моря,
под горло салфетка или под правым боком подстилка
из гнилой соломы, неволи, горького горя.
У виска колотится синяя жилка,
славы Отечества не позоря.
"Течет между пальцев, сквозь сито, испаряется…"
Течет между пальцев, сквозь сито, испаряется —
это, кажется, о воде
из ржавого крана на кухне, над раковиной, все равно,
морской, или железной, или фаянсовой. Вода в своей
правоте
смывает и растворяет все, что Богом сотворено.
Например, когда-никогда – прибрежные города,
грязь с посуды и с тела, прекрасного, юного, а потом
со слабого, дряблого, покрасневшего от стыда,
подъема давления, жизнь – еще тот Содом.
Воду смиряет холод. Белая корка льда.
Дашь волю – воздвигнет волну высотой с трехэтажный дом.
Прорвет плотину, обрушится в темной ночи
на неповинный, местный, спящий народ.
Наполнит жилище, легкие – кричи не кричи.
У воды есть свойство заткнуть разинутый рот.
Погруженное в воду тело теряет в весе – привет, Архимед,
вытеснять-притеснять воду не следует, она отомстит, за ней
не пропадет – она лишена особых примет,
ее не поймаешь с поличным. Она говорит: испей
меня, утолишь последнюю жажду, и никогда
уже не захочешь пить – хватит тебе глотка.
То же можно сказать о времени. Оно течет, как вода,
и ты плывешь по течению. Хорошо, что жизнь коротка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

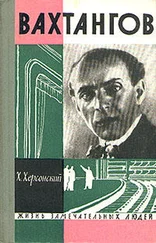

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)