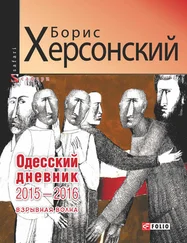"Бухты. Заливы. Цепь городков прибрежных…"
Бухты. Заливы. Цепь городков прибрежных —
двухэтажных, тихих, известняковых, грешных,
где любая квартирка всегда сдается внаем.
Даже если это дощатый курень-скворечник
у самой воды, здесь хорошо вдвоем.
Здесь тела расслаблены, кожа шершава
и солона, здесь совсем измельчала Держава,
как прибрежная отмель песчаная или лиман.
Идешь по косе – море щебечет справа,
слева лиман и нимфы – любуйся, эротоман!
В эпоху безделья найти нелегко занятье
для того, что было плотью, что облачалось в платье,
истязалось плетью времени, чтобы в конце концов
головой с разбегу броситься в наследственное проклятье,
давно поглотившее прадедов и совсем недавно – отцов.
"По недомыслию, по неведению, по небрежности…"
По недомыслию, по неведению, по небрежности,
по сдвигу в мозгу, по зуду в промежности,
по нерадению мы допускаем погрешности.
И такая жизнь позади, что стыдно оглядываться.
А как стыдиться нечего, так и нечему радоваться.
Только вспомнишь унылую лошадь, телегу с бидонами,
паровоз со звездой и прицепленными вагонами,
послевоенных военных с медалями и погонами.
Только очередь за молоком, баночки со сметаною,
крышки из белой фольги, блюдечко с кашей манною,
вся комками, но сварена нашей мамою.
Если мама была жива, молода, улыбка светилась лучиком,
если ты в мечтах был отважным греческим лучником,
одновременно наследным принцем или поручиком.
Хорошо быть детьми неухоженными, голоштанными,
хорошо, что в городе есть Приморский бульвар
с каштанами,
а за городом – степь с полевками и баштанами.
Вот и море к ногам подступает. Народ щеголяет бумажными
треуголками из газет и иными нарядами пляжными
и телами – складчатыми, насквозь прогретыми, влажными.
Вот и старость не за горами, а в пыльном скверике,
на скамейке с газетами об СССР и Америке,
о буржуазии, которая бьется в истерике.
Вот и смерть на четвертой странице в траурной рамочке.
Ничего, что каша комками, – хочется к мамочке.
"Ползет вверх по склону красно-желтый фуникулер…"
Ползет вверх по склону красно-желтый фуникулер.
Бежит, зажав кошелек в руке, карманник, не чуя ног.
Не бойся, сынок, Бог не фраер, не мусор и не филер.
Не следит за тобой, не догонит тебя, сынок.
Что в чужом кошельке – все твое, все пятнадцать рублей
плюс ключ от сарая и постоянный билет за июнь.
Старушке даст ссуду профком, ее не жалей.
Кто скажет, что будет плакать, – не слушай, а в очи плюнь.
Ну отяжелеет совесть где-то на грамм пятьдесят.
Ну поймают, повяжут, осудят, навесят срок.
Все равно не узнают всех дел, что на тебе висят.
А срок, как урок, тебе все равно не впрок.
Потому как ты был сирота, военной войны дитя.
Потому как такое видал – что там тот кошелек!
Ты свой, социально близкий, ты срок отмотаешь шутя,
выйдешь – а там и до нового срока путь недалек.
Беги, пятнадцать рублей – все равно навар,
лето в разгаре, на клумбах цветут цветы.
И пока фуникулер вползет на Приморский бульвар,
ты будешь уже далеко. И это будешь не ты.
"Получив наследье – Империю, не знаешь, то ли гордиться…"
Получив наследье – Империю, не знаешь, то ли гордиться,
то ли просто, без шума, разумно распорядиться,
или хуже – растерянно перебирать
предметы из бронзы, мрамора и порфира,
что продать при случае, наполнив музеи мира,
тем более, знаешь – хоть девять десятых растрать,
останется детям, и внукам хватит с лихвою,
и правнук не промотается, всем с головою
добра останется где-то на тысячу лет.
Вот только лица не сохранить. На безличье
и маска – лицо. Наследственное величье
придется нести – иного выхода нет.
Добиваться единства, вооружаться, шею
склонять под иго диктатора. Рыть траншею.
Выставлять оттуда винтовку, боясь поднять
голову в каске – ни цели, ни просто прицела.
Тебя любила Империя, как умела,
а что уберечь не смогла, то кому пенять?
"Церковь, кого ты больше любишь – Петра или Павла…"
Церковь, кого ты больше любишь – Петра или Павла?
Того, что пониже, с книгой, или того, с ключами?
Или любовь остыла? Или вера ослабла?
Или ты разучилась разговаривать с палачами?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

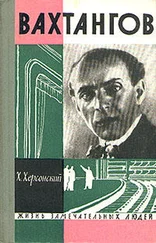

![Хрисанф Херсонский - Вахтангов [1-е издание]](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-thumb.webp)