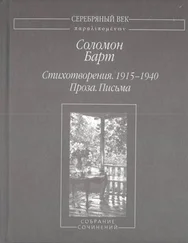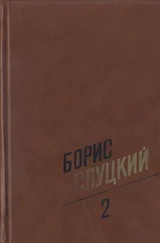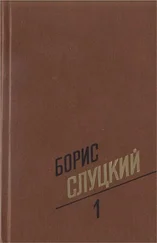Но что наказанная слепотой
могла узнать о нежной, о нежнейшей
утонченности той, изысканности той,
искусственности той, изнеженности той?
Был взор слепой, слепой, слепейший.
И я мечтал о том, что снидет Царь Царей
в сиянии, в алмазном свете,
что вот — Он исцелит, что Он велит прозреть,
дабы узреть,
узреть узоры эти!
* * *
Ловите рифмы — невидимки
Давай походим по дивным музеям,
где пышные чаши времен Возрождения
(агат, хризолит, сердолик)
пламенеют (большие тюльпаны)
и перламутрово-переливчатая лазурь
обыкновенного египетского трехтысячелетнего стекла
похожа на вечность.
Мы тоже владеем
остатками прежнего вдохновения,
когда глядим на прекрасный каменный лик
мученика, на узорчато-золотые Кораны
или короны тиранов (следы «исторических бурь»).
Короны. Не кровь и не слезы, ни капельки зла:
алмазно-рубиновый венчик.
Мы даже прощаем злодеям
на картине (работе, быть может, не гения)
за отблеск на нежно-сиреневых складках, за светлый
родник,
за блекло-оранжевые (с бледно-синим) кафтаны
на двух палачах, за топор, над которым лазурь,
за острую лилию — так она дивно бела! –
за венчик, за вечность.
* * *
Как большая темная миндалина
У певицы мандолина.
И глаза – миндальнее миндального.
Музыкантша уличная, дальняя:
Флорентинка, синьорина.
И мелодия сентиментальная
Всё прозрачней и печальней,
Всё нежней, вечерней и усталее.
Всё — певица, пьяцца, вся Италия
Всё хрустальней и прощальней.
И видна — незримая — зеленая
Озаренная долина
(Не Италия, скорей Инония),
Где поет счастливая, прощенная,
Неземная Магдалина.
* * *
Удивительно, как удлинен
Голубой силуэт минарета.
О, высокий расчет и закон,
И высокое царство колонн,
И объемы из тени и света!
Золотисто-зеленая вязь
Синевато-лазурных мозаик,
А на улице мулы и грязь
(И лазурная муха впилась),
И глаза малышей-попрошаек.
Гадит голубь на пыльный порфир,
Лепестки устилают ступени.
Царство грязи и царство сирени,
И стоит гармонический мир,
Композиция света и тени.
* * *
В огромном, царственном, торжественном саду,
Склонясь к лиловому тюльпану,
К пурпурным ирисам… Ни про мою беду,
Ни о твоей беде — не стану.
Здесь фиолетово-сиреневый нарцисс,
Так ярко мотылек желтеет,
И солнце золотит воздушный кипарис
Геометрической аллеи.
Здесь роза клонится тяжелой желтизной,
Пион багряно-фиолетов,
И все равно, что этот пышный зной –
Над усыпальницей скелетов.
* * *
Тем более, что так недолговечно-розово
(На мимолетно-золотистом) —
Непрочным волшебством заката позднего,
Мерцанием, зелено-смутным, озера,
Лучом, разлившимся по листьям…
Тем более, что скоро ночь, но тем не менее
Раскрылись розы, точно от прикосновения,
В японском садике, где ручейки с пригорка.
Прохладным сном — в Японии? В Армении?
В Норвегии? — Неслышным ветром синего фиорда
(И полночь, будто синее растение)…
О, восхитись, хоть ими, на мгновение!
Мне захотелось не иронии, а пения,
Волшебно-дивного восторга.
* * *
Взлетали фонтаны — светлые всадники.
Голубь уселся на мраморном темени древнего грека
символом мира и Духа. Белка метнулась
вниз по стволу и лучу – вышло вроде невзрачной
кометы
(хвост у кометы пышней, но откуда возьму я комету?).
Мальчик нагнулся и кинул в озеро камушек плоский,
который вдруг ланью запрыгал, тонуть не желая.
Собака из озера выплыла, и на асфальте аллеи
следы темно-влажные лап казались цветами,
каждый в четыре, смотри, лепестка (это «счастье»?).
И ласточки ножницами живо живыми кроили
летнее небо. Ласточки, где бы найти мне
несколько слов, я хотел бы, выкроенных из лазури?
* * *
Тополь полон волненья, и липа звучит, как лира.
На яблоке и на облаке ясный
Отблеск золота вечности.
Сердце, как бутон розы, раскроется скоро
От лазурной музыки мира.
Около озера ирисы, белые ибисы
(Точно маленький беленький архипелаг);
На светлом песке бело-сизый птичий помет.
А в небе жаворонок, будто якорь блаженных минут,
В светлую вечность закинутый якорь.
Читать дальше