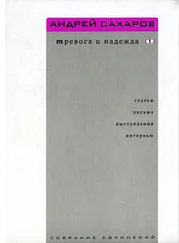Игорь Чиннов
Собрание сочинений: В 2 т. Т .2. : Стихотворения 1985-1995. Воспоминания. Статьи.Письма.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
О себе
Родился я давно — в 1909 году, 25 сентября, в Туккуме в семье юриста. Туккума не помню, но ясно вижу городки, балтийские, в которых случилось жить: уютнейшую Митаву (ныне Елгава) — «Покойся, мирная Митава», — писал Мих. Кузмин. И Юрьев, теперешний Тарту, с университетом «дней Александровых» и готическими руинами на горе, аккуратнейший, тихий городок. Позже была Рязань, с незабываемой зимой, блистающим снегом, розвальнями, бубенцами и внезапной весной, могучим ледоходом на Трубеже, свежестью воздуха прямо-таки прекрасной. А в Риге помню запах свежесрубленных елок, снежинки — и извозчиков в синих кафтанах, синие полости саней… На санях, увы, кататься не приходилось: денег не было.
В Риге окончил я Ломоносовскую гимназию, Латвийский университет: магистр юридических наук. А зарабатывать на жизнь стал поздно, долгие годы предпочитал бедность и досуг. И стихи — чужие, но и свои. Первая служба — в ТАСС, в латвийском его отделе ЛТА (Лета). Затем — фармацевтическая фирма Мэдфро (MEDFRO), откуда меня и угнали на работу в Германию, в Рейнскую область. Месяцев десять весьма безрадостных, хотя с возможностью читать (конечно, только немецкие книги, но включая Шиллера и Гете). И вдруг — освобождение, и американцы берут всех желающих насельников лагеря во Францию! Месяцы праздной жизни — Люневиль, Нанси, Реймс — и наконец я в Париже.
Тут помогла мне начавшаяся в Риге «литературная деятельность»: не «Мансарда», где напечатал я две статьи, и, конечно, не «Daugava» (статья о русской поэзии), а сотрудничество в престижнейшем журнале «Числа». Георгий Иванов, приезжавший в Ригу с Ириной Одоевцевой, захотел взять у меня какие-то писания («Это каша. Но это творческая каша») – и, начиная с 6-й книги «Чисел» по 10-ю, я там и представлял, единолично, «русскую литературную Ригу».
В Париже было безденежно, но прекрасно. В Париже было безденежно, но прекрасно. Я любовался, восхищался городом, наслаждался встречами с русской литературой. Чудеса! Уже через три недели по приезде я читал свое стихотворение (написанное за ночь перед тем) на вечере памяти Пушкина в русской консерватории, под портретами Шаляпина и Рахманинова. Сидели за столом Бунин, великолепный, Ремизов, хитрющий умница, затем Сергей Маковский, редактор знаменитого «Аполлона» очень «Ваше превосходительство», — и друзья и ученики Гумилева Георгий Адамович, Георгий Иванов — почти весь синклит! А в зале был литературный и художественный русский Париж…
Я слушал Адамовича (какой оратор!), Маклакова. Когда освоил французский, бывал в Сорбонне — академики говорили восхитительно. А на сходках русских поэтов мы читали стихи – очень часто это были стихи о России.
Да, все было, кроме денег. И пришлось мне уехать на заработки — в Германию.
Там тоже нашлись русские литераторы: Федор Степун, профессор, при Гитлере лишенный кафедры, Владимир Васильевич Вейдле, петербуржец, несший гроб Блока, писатель французский и немецкий, автор шести русских книг, для которого я скоро стал «милым другом», Гайто Газданов, автор повести «Вечер у Клер», Леонид Ржевский, москвич. Я почти прижился — и вдруг приглашение в США! Канзасский университет зовет меня на кафедру русской литературы: хочу ли я стать associated professor (Штатным профессором, англ.). За литературные заслуги, вот какие дела!
И я оказываюсь в центре страны Среднего Запада, в Лоренсе. Университет большой, видный, городок маленький — но это бывает. На второй день иду в магазинчик: по радио передают «Подмосковные вечера»! Сколько раз потом мои милые студенты пели и эти «Вечера», и «Катюшу», и «Сулико».
В Канзасском университете я пробыл шесть лет, потом был Питтсбург, затем Вандербилт в Нашвилле. А со стихами и лекциями побывал в сорока университетах, на двадцати съездах славистов — и т.д., и т.д.
Охотно бы и дальше читал студентам о Пушкине, Гоголе, Чехове — но подошел пенсионный возраст, кончал базар, и из любви к теплому климату переселился во Флориду. Брожу по пляжу, он вроде Рижского взморья, Юрмалы, бормочу русские стихи. Американцем не стал, просто живу здесь, а на вопрос, почему здесь, отвечаю, как чеховский татарчонок: превратность судьбы!
Мое писательство: долго писал красиво-бледные стихи, очень отжатые и сжатые со самом главном», лучшие слова в лучшем порядке, по завету Кольриджа. Никаких поэтизмов, ни одной инверсии родительного падежа (это и теперь так). Мелодичность при полной естественности. Затем изящную бледность сменила многокрасочность, яркость, пышная образность, метафоры, орнаментальность, оркестровка, роскошества: цветы, сады, дворцы, увиденные в разных странах. Но красоты уравновешивал гротесками, черным юмором; эстетство, в котором винюсь, бывало «не без иронии порой».
Читать дальше