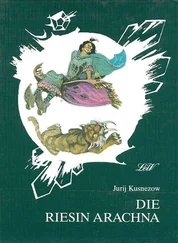Там зеленая ночь и снега ослепленья,
Поцелуй изнутри прозреваемых волн,
Фосфорических брызг голубое кипенье
И неслыханных сил бесполезный разгон.
Я глядел месяцами, как волны морские
Осаждали скалу, словно стадо свиней,
И не думал, что светлые ноги Марии
Усмирят запаленное рыло морей.
Рвите волосы! Столько Флорид я заметил!
Я с глазами пантер перепутал цветы
В человеческих шкурах. Натягивал ветер
Узды радуг и топал на стадо воды.
Видел топи, огромное варево гнили,
В тростниках позабытую сеть, где гниет
Старый Левиафан! И на зеркале штилей
В безобразную пропасть падение вод.
Ледники, перламутровый свет, водопады,
Глубь фиордов, сосущий провал пустоты,
Где кишащие вшами гигантские гады
Наземь валятся, с треском ломая кусты.
Показал бы я детям непуганых рыбок,
Золотых, говорящих на все голоса.
Пышной пеной мой путь расцветал на изгибах,
Небывалые ветры несли паруса.
Море, жертва луны, ты пассатом затерто.
Как меня услаждали рыданья твои!
Ты вставало с цветами медуз выше борта,
Я стоял на коленях, как дева любви.
Словно остров, качал я случайные ссоры
И помет бледноглазых рассерженных птиц.
Так я плыл: за разбитым бортом только море,
Где утопленник задом спускается вниз.
Так обросший ракушками царства седого,
Круто брошенный морем на гребень грозы,
Я — корабль! Но не сыщут каркаса спитого
Мониторы спасенья и лодки Ганзы.
Я — свободный, окутанный дымчатым светом,
Пробивал, словно стену, заоблачный край,
Где сладчайшее блюдо готово поэтам:
Сопли бледной лазури и солнца лишай.
В гальванических отсветах щепкой-рогулей
Я скитался с эскортом несметных коньков.
И в свистящую пропасть дубинки июлей
Купол синего неба сшибали с основ.
Вздрогнув чутко, вдали бегемотовы свадьбы
И тяжелый Мальштрем я на слух узнаю.
Вечный путник пустот, — как тоскую! Узнать бы
О Европе с гранитным крестом на краю.
Вижу звездные архипелаги, и снова
Для бродяги открыта бредовая ночь.
В эти ль ночи тоски ты уходишь без слова,
Тьма сияющих птиц, о грядущая Мощь!
Значит, правда, я плакал. Закаты рыдают,
Луны жаб изрыгают, и солнца горчат.
Волны страсти меня с головой накрывают.
Расколись, моя щепка! Пусть кану я в ад!
Что мне воды Европы! Пускай это будет
Просто лужа при свете вечерней звезды,
Где кораблик, как майскую бабочку, пустит
Грустный мальчик, присевший у самой воды.
Я устал, зацелованный брызгами влаги,
За судами по следу бежать столько дней.
Надоело мне видеть надменные флаги,
Не могу больше плыть вдоль понтонных огней.
(Мицкевич)
Мы вышли на простор сухого океана;
Ныряет в зелени повозка, борозда
По нивам и цветам проходит, иногда
Минуя острова багряного бурьяна.
Уже темнеет, ни дороги, ни кургана;
Ищу на небе звезд — не сбиться б со следа.
Там блещет облако? Там вспыхнула звезда?
То блещет Днестр, то светит лампа Аккермана.
Как тихо! Задержись! Я слышу перелет
Далеких журавлей; я слышу, как ползет
Незримая змея и стебли трав колышет,
Как бабочка в траве трепещет; настает
Такая тишина, что мог бы я услышать
И зов с Литвы — пошел! Никто не позовет.
Ныне раблезианства нет, и в этом можно убедиться, проследив деградацию смеха от Лукиана, Боккаччо и Рабле вплоть до нашего Гоголя, а я только попытался собрать в пучок слабый свет раблезианского смеха, рассеянного в нашей жизни, и мой гротеск, следовательно, есть бледный отсвет этого смеха. (Прим. авт.)
![Юрий Кузнецов После вечного боя [стихи] обложка книги](/books/26735/yurij-kuznecov-posle-vechnogo-boya-stihi-cover.webp)