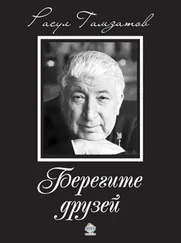Он манией преследованья болен.
Не доверяет близким и врачам.
И убиенных позабыть не волен,
Ему кошмары снятся по ночам.
Я в горы поднимаюсь ли высоко,
По улицам брожу ли городским,
Следит за мною, как царево око,
Чугуннолицый, зорок и незрим.
Перед Кремлем, как будто бы три бури,
Овация гремит.
И я, чуть жив,
Смотрю: возник Иосиф на трибуне,
За борт шинели руку положив.
Предстал народу в облике коронном.
И «винтиками» прозванные им
Проходят в построении колонном
Внизу, как подобает рядовым.
Лихого марша льется голос медный,
И я иду — державы рядовой.
И хоть я винтик малый, неприметный,
Меня сумел заметить рулевой.
Мы встретились глазами.
О, минута,
Которую пером не описать.
И еле слышно вождь сказал кому-то
Короткое, излюбленное:
— Взять!
Усердье проявил чугуннолицый:
Он оказался шедшим позади…
Быть может, это — явь, а может, снится
Мне вещий сон на бурке из Анди.
* * *
Как вы ни держались бы стойко,
Отвергнув заведомый вздор,
Есть суд, именуемый «тройкой»,
Его предрешен приговор.
Не ждите, родимые, писем
И встречи не ждите со мной,
От совести суд независим,
За каменной спрятан стеной.
Он судит меня, незаконный,
Избрав роковую статью.
Безгрешный я, но обреченный,
Пред ним одиноко стою.
Запуганная и святая,
Прощай, дорогая страна.
Прощай, моя мама седая,
Прощай, молодая жена.
Родные вершины, прощайте.
Я вижу вас в сумраке дня.
Вы судей моих не прощайте
И не забывайте меня.
Залп грянул.
Откликнулось эхо.
И падают капли дождя,
И взрывы гортанного смеха
Слышны в кабинете вождя.
* * *
То явь иль сон:
попал я в мир загробный,
Вокруг окаменевшая печаль.
Сюда за мной, хоть ловчий он способный,
Чугуннолицый явится едва ль.
Здесь мой отец и два погибших брата
И сонм друзей седых и молодых.
Восхода чаша легче, чем заката,
Извечно мертвых больше, чем живых.
И, бороду, как встарь, окрасив хною,
Шамиль, земной не изменив судьбе,
Отмеченный и славой и хулою,
Лихих наибов требует к себе.
Вершины гор ему дороже злата.
Еще он верен сабле и ружью.
Еще он слышит глас Хаджи-Мурата:
— Позволь измену искупить в бою.
В загробный мир не надо торопиться.
И виноват лишь дьявольский закон,
Что раньше срока Тициан Табидзе
Из Грузии сюда препровожден.
Как в Соловках, губителен тут климат,
И я молву, подобную мечу,
О том, что страха мертвые не имут,
Сомнению подвергнуть не хочу.
Но стало страшно мертвецам несметным,
И я подумал, что спасенья нет,
Когда старик,
считавшийся бессмертным,
В парадной форме прибыл на тот свет.
В стране объявлен траур был трехдневный,
И тысячи,
не ведая всего,
Вдруг ужаснулись с горестью душевной:
«А как же дальше? Как же без него?»
Как будто бы судьбой самою к стенке
Поставленные,
сделались бледны.
И стало им мерещиться, что стрелки
Остановились на часах страны.
Так повелось от сотворенья мира:
Когда несется весть во все концы,
Что армия лишилась командира,
Теряются отдельные бойцы.
И слезы льют в смятении печальном,
И словно слепнут, стойким не в пример,
А по уставу в штабе генеральном
Берет команду высший офицер.
Скончался вождь! Кто поведет державу?
За тридцать лет привыкли,
видит бог,
К его портретам, имени и нраву,
Похожему на вырванный клинок.
К грузинскому акценту и к тому, что,
Как притчи, славясь четкостью строки,
Написанные лишь собственноручно,
Его доклады были коротки.
Привыкли и к тому, что гениален
Он, окруженный тайною в Кремле.
И к подписи незыблемой «И. Сталин»,
Казавшейся насечкой на скале.
Он знал, что слово верховодит битвой,
И в «Кратком курсе» обрела права
Считаться философскою молитвой
Четвертая ученая глава.
Нес тяжкий груз он, как его предтечи.
Но не по силам роль порой была,
И не уравновешивались плечи,
Как будто бы весы добра и зла.
В нем часто гнева созревали грозди,
И всякий раз под мягкий скрип сапог
Вновь намертво вколачивал он гвозди,
Так, что никто их вытащить не мог.
Читать дальше