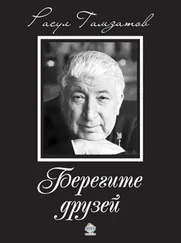Словно я был на другом уже свете,
Черной казалась луна.
А за спиной моей плакали дети
И причитала жена.
Саваном сизым покрылась вершина,
Стыла беззвездная темь.
Хлопнула дверца.
Рванулась машина —
Времени верная тень.
Ход у нее был и мягкий, и скорбный,
Только послышался тут
Скрип мне колесный арбы,
на которой
Мертвое тело везут.
* * *
О времени жестокая нелепость!
Ворот железный раздается стон.
Попал ли не в Хунзахскую я крепость,
Чей против белых дрался гарнизон?
Бойцы здесь не стояли на коленях
И просыпались с возгласом:
«В ружье!»
Но почему сегодня на каменьях
Дымится кровь защитников ее?
Сжимает зубы партизан Атаев.
Не грешен он пред партией ничуть,
Но голова седая, не оттаяв,
Вдруг виновато падает на грудь.
Какая радость для капиталистов:
— Будь год тридцать седьмой благословен! —
Сажают коммунисты коммунистов,
И потирает руки Чемберлен.
Меня окутал полумрак подземный,
Вступаю на цементные полы.
Похоже, привезли меня в тюремный
Отверженный подвал Махачкалы.
А может быть, поэт земли аварской,
Доставлен на Лубянку я,
а тут
Те, что молчали пред охранкой царской,
Любые обвиненья признают.
Клевещут на себя они, на друга
И не щадят возлюбленной жены.
Страна моя, то не твоя заслуга,
Достойная проигранной войны.
Еще года расплаты будут долги
И обернутся множеством невежд,
И горьким отступлением до Волги,
И отдаленьем брезжущих надежд.
Горит душа — открывшаяся рана,
И запеклись в устах моих слова.
Один меня — он в чине капитана —
Бьет, засучив по локоть рукава.
Я говорю ему, что невиновен,
Что я еще подследственный пока.
Но он, меня с окном поставив вровень,
Хихикает:
— Валяешь дурака!
Вон видишь, из метро выходят люди,
Вон видишь, прут через Охотный ряд,
Подследственные все они, по сути,
А ты посажен, — значит, виноват!
Мне виден он насквозь, как на рентгене,
Самодоволен и от власти пьян,
Не человек, а только отпрыск тени,
Трусливого десятка капитан.
(А где теперь он?
Слышал я: в отставке,
На пенсии, в покое, при деньгах.
Охранные в кармане носит справки
И о былых мечтает временах.)
Мой капитан работает без брака,
А ремесло заплечное старо…
— Ты враг народа!
Подпиши, собака! —
И мне сует невечное перо.
И я сдаюсь:
подписана бумага.
Чернеет подпись, будто бы тавро.
Я для себя не кто-нибудь, а Яго,
Будь проклято невечное перо!
Поставил подпись времени в угоду,
Но невиновен и душою чист,
Не верьте мне, что изменял народу,
Как буржуазный националист.
Признался я, но даже и придуркам
Покажется не стоящим чернил
О том мое признание, что туркам
Я горы дагестанские сулил.
И хоть признался, верить мне не надо,
Что за какой-то мимолетный рай
Скуластому японскому микадо
Я продал наш Дальневосточный край.
Но есть и пострашнее погрешенья,
Терпи, терпи, бумаги белый лист:
Я на вождя готовил покушенье,
Как правый и как левый уклонист.
Был немцами расстрелян я, но силы
Еще нашел и в ледяной мороз,
Как привиденье, вылез из могилы
И до окопов родины дополз.
О, лучше б мне остаться в той могиле
И не глядеть на белый свет очам.
Дополз живым. В измене обвинили
И на допрос таскали по ночам.
Во всем признался. Только вы проверьте
Мой каждый шаг до малодушных фраз.
Во всем признался. Только вы не верьте
Моей вине, я заклинаю вас.
Взяв протокол допроса из архива,
Не верьте мне, не верьте и суду,
Что я служил разведке Тель-Авива
В сорок девятом вирусном году.
Мечтаю, как о милости, о смерти,
Глядит с портрета Берия хитро.
Вы моему признанию не верьте,
Будь проклято невечное перо!
* * *
То явь иль сон: мне разобраться трудно.
У конвоиров выучка строга.
За проволокой лагерною тундра
Или стеною вставшая тайга?
Что знаешь ты, страна, о нашем горе?
Быль не дойдет ни в песне, ни в письме.
Нас тысячи невинных — на Печоре,
На Енисее и на Колыме.
На рубку леса ходим под конвоем,
Едим баланду. Каторжный режим.
И в мерзлоте могилы сами роем
И сами в них, погибшие, лежим.
Читать дальше