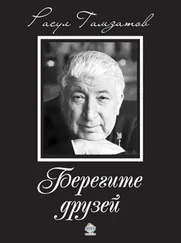И, головы густую проседь
Склонив над пузырьком чернил,
У Сталина прощенья просит,
Что сам себя оговорил.
Был следователь только пешкой,
Но Эйхе это не учел.
И Сталин с дьявольской усмешкой
Письмо посмертное прочел.
Звезда сорвалась с небосвода
И канула в ночную тьму.
Пишу и я вождю народа,
Железно преданный ему.
И с журавлиною станицей
Посланье шлю, как сын родной…
Проходят дни.
Чугуннолицый
Встает полковник предо мной.
* * *
Я, увидав полковника, не обмер, —
Всяк лагерник, что стреляный солдат.
— Фамилия?! — Свой называю номер:
— Четыре тыщи двести пятьдесят.
Нацелен взгляд тяжелый, как свинчатка,
Но чем-то он встревожен, не пойму…
— В Москву писал? —
спросил знаток порядка,
Таинственно добавив:
— Самому?!
Быть может, это — явь, а может, снится
Мне вещий сон на бурке из Анди?
— Свободен ты, —
сказал чугуннолицый
И распахнул ворота:
— Выходи!
И я, покинув гибельное место,
Иду и плачу — стреляный солдат,
И мне, как прежде, мне, как до ареста,
«Товарищ, здравствуй!» —
люди говорят.
И вижу я: летит быстрее поезд,
В домах светлее светятся огни.
Крестьянами взлелеянный на совесть,
Хлеб колосится, как в былые дни.
И звезды над Кремлем не побелели,
На Спасской башне стрелки не стоят,
И молодая мать у колыбели
Поет, как пела сотни лет назад.
Был враг разбит.
И я смотрю влюбленно
На площадь, где прошли с победой в лад
Войска,
швырнув трофейные знамена
К подножью принимавшего парад.
Но оттого, что нас зазря карали,
Победа крови стоила вдвойне.
И, стоя над могилами в печали,
Оплакиваю павших на войне.
Мои два брата с фронта не вернулись,
Мать не снимает черного платка.
А жизнь течет.
И вдоль аульских улиц
Под ручку ветер водит облака.
По-прежнему влюбленные танцуют,
Целуются, судачат про стихи,
А лекторы цитаты все тасуют
И говорят всерьез про пустяки.
И, с дирижерской властностью роняя
Слова насчет немелодичных нот,
Вождя соратник, сидя у рояля,
Уроки Шостаковичу дает.
В театре, в министерстве, в сельсовете,
В буфете, в бане, в здании суда,
Куда ни входишь — Сталин на портрете
В армейской форме, в штатском — никогда.
Сварила мать из кукурузы кашу,
Но в мамалыгу молока не льет,
А сообщает горестно, что нашу
Увел вчера корову заготскот.
Кавказ, Кавказ, мне больно в самом деле,
Что, разучившись лошадей седлать,
Твои джигиты обрели портфели,
Сумели фининспекторами стать.
В ауле слышу не зурны звучанье,
Бьет колокол колхозного двора:
«Пора! Пора!
Проснитесь, аульчане,
Вам на работу выходить пора!»
Шлют из района, план спустив в колхозы,
Угрозы все да лозунги одни.
От горькой прозы набегают слезы,
Ох, дешевенько стоят трудодни.
Каков твой вес, державы хлеб насущный,
Что собран и приписан вдалеке? —
Не знает Сталин — корифей научный,
Им поднят вдруг вопрос о языке.
Идет в кино «Падение Берлина».
И, обратясь к тому, что было встарь,
Перо льстеца жестокость обелило:
Играется «Великий государь».
Вождь начал делать возрасту уступки:
Он крепкого вина не пьет в обед,
Не тянет дыма из вишневой трубки,
Довольствуется дымом сигарет.
На всех широтах в тюрьмах и на воле,
На поле боя, на столбцах газет,
Позванивая сталью,
не его ли
Царило имя три десятка лет?
На льдину с этим именем садились
Пилоты, прогремев на весь Союз.
И на обложку это имя вынес
Своей последней повести Барбюс.
Оно на скалах Сьерра-Гвадаррамы
Для мужества звучало как пароль,
И мужество несло его, как шрамы,
Как на висках запекшуюся соль.
— За Сталина! —
хрипел с пробитой грудью,
Еще полшага сделав, политрук.
И льнуло это имя к многопудью
Парадной бронзы, отлитой вокруг.
На встречах в Ялте
вождь держался роли,
Которая давно ему мила.
Входил он в зал,
и Черчилль поневоле
Пред ним вставал у круглого стола.
Но что с былой уверенностью сталось?
Уходят силы. Боязно ему.
Отец народов собственную старость,
Когда бы мог, сослал на Колыму.
Читать дальше