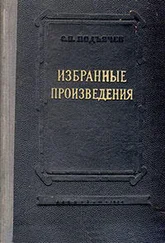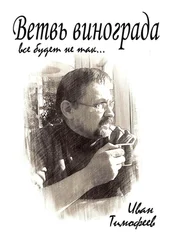Вы когда-то мальчишку пожизненно ранили
зовом в синие дали, чтоб сердце дерзало.
Ах, вы, белые, белые, белые лайнеры,
что вы смотритесь в окна морского вокзала?
Что вам видится в стеклах?
Таверны с лангустами?
Маяки? Или волны на уровне неба?
Неужели вы тоже бываете грустными?
Полагаю, что вам сокрушаться нелепо.
Покоряли моря и качались на якоре.
Вам неведома жизнь одинокой улитки.
Может, где-то в каютах порою и плакали,
но во многих портах вы сгружали улыбки.
Сколько раз вы ходили дорогами древними
и всегда молодыми, как солнце и пена.
Сколько штормов опало у вас под форштевнями!
Вы несли постоянство над хаосом крена.
Ничего, что сегодня плетенными жилами
вы привязаны к пирсу — вас ждут океаны.
Нам бы тут, по земле, не пройти пассажирами.
Нам бы тут, на земле, пересилить туманы…
Море пеной волны белит,
дразнит синевой.
Я давно сошел на берег,
пахнущий травой.
Под косым полетом чаек,
слыша якоря,
я встречаю на причалах
дальние моря.
Позументы капитанов
ослепляют взгляд.
Журавли портальных кранов
надо мной летят.
Были радости и горе,
угрожал циклон.
Снова Фиджи и Нагоя,
Куба и Цейлон.
Снова Сидней и Канада,
Лондон и Оран…
Не зови меня, не надо,
Тихий океан.
Под косым полетом чаек
в запахе смолья
вновь земля меня качает —
палуба моя.
На песок уронив хлопья пенистой пряжи,
море холодно хлюпает серой волной.
Марсиански молчат опустевшие пляжи,
как любовь, вспоминая клубившийся зной.
Словно весла отныне гребцам непослушны,
в неизбывной немой и кричащей тоске
одинокая лодка спасательной службы,
накренясь, безнадежно завязла в песке.
Из латуни отлита погодка осенья.
Чайка остро крыло наклоняет к волнам.
Ах, послушайте, лодка,— где служба спасенья
от седых одиночеств, явившихся к нам?
На песке между ямок и маленьких кочек
чайки что-то кому-то писали — бог весть…
Их следов письмена, их языческий почерк
только ветер напрасно стремится прочесть.
Теплоход на подводных крыльях
О времени примета!
Смущая синий плес,
мчит серая «Комета»,
задрав под небо нос.
К чему винтов усилья,
куда лететь? — спроси.
Кладет на воду крылья,
как на бетон — шасси.
Моторно и крылато
в наш реактивный век
мы все спешим куда-то,
все ускоряем бег.
Мы мчимся оголтело,
не чувствуя узды,
и отрываем тело
от суши и воды.
Нет сил остановиться,
не верим тормозам —
и задираем лица
все выше к небесам.
Изъеденные старостью и ржавчиной,
покоятся на пирсе якоря.
Их в тигле переплавят в час назначенный,
вторичное рождение даря.
Они служили долго, столько видели
далеких стран и суток штормовых,
что и мужчина в капитанском кителе,
пожалуй, повидал поменьше их.
Морская глубина их часто прятала,
любило дно… Ах, эти якоря!
По ним стекали и закат экватора,
и северная бледная заря.
За честный труд хоть благодарность вывеси
во время бурь, на рейдах и в портах
они держали корабли на привязи,
они не знали, что такое страх.
Теперь их ливни серые оплакали.
А мы стоим у моря на краю.
И не могу я удержать на якоре
сияющую молодость твою…
Из царства мертвых возвращаясь с войском
домой, к жене, стремясь душою всей,
велел гребцам закапать уши воском
находчивый и хитрый Одиссей.
Он знал, что где-то в море, в клочьях пены,
от берегов отеческих вдали,
так сладко, так тепло поют сирены,
что люди покидают корабли.
Не в силах зачарованного взгляда
уже отвлечь от призрачных сирен,
они спешат покорно, словно стадо,
и гибелью оплачивают плен.
Для них не существует зова слаще,
оружие забыто навсегда.
И смех, живые души леденящий,
смыкается над ними, как вода…
Не раз бывая в плаванье заморском,
я тоже слышал пение сирен.
Но уши не закапывал я воском
и, как безумец, не стремился в плен.
Читать дальше