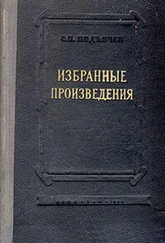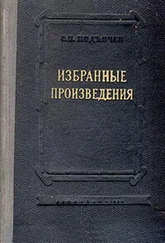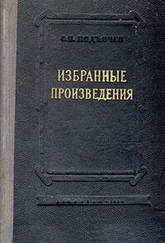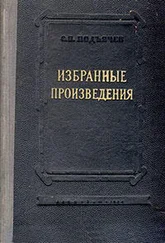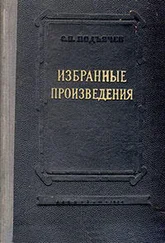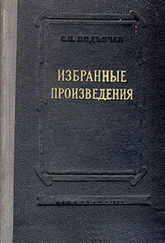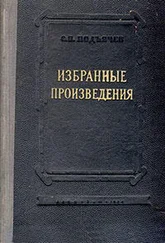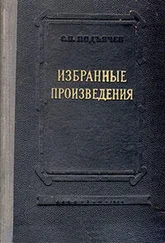Иван лежал на печи «головами» в темный угол, ногами наружу и с тоской на сердце слушал, что делалось внизу в избе.
В избе было шумно. Бабы — жена его, Макрида, и ее золовка, его сестра, старая, горбатая девка, — перекорялись между собой, называя одна другую не по имени, а по кличкам: золовка называла Макриду «мокрым хвостом», а та ее «сукой горбатой».
Спор и ругань у них затеялись давно, еще с утра, «до свету», из-за лампадок. Каждая из них зажигала свою собственную и ставила перед своими богами. Нынче как раз был праздник — Крещенье… Поднялись рано… Макрида не успела за недосугом первая зажечь свою, и этим воспользовалась золовка. Пока Макрида копошилась на дворе, делая там что-то около скотины, она взяла свой «стакашик», служивший лампадкой, налила из полбутылки масла, оправила фитилек и, «затеплив» его, поставила на угольник, где стояли боги, ее и макридины, перед своей иконой Иоанна Крестителя, отодвинув немного в сторону макридину Казанскую.
Придя со двора в избу и увидя это, Макрида обозлилась и закричала:
— Ты что ж это, а? Сука ты мозговая! Горбыль ты нетесаный!.. Что ж это ты надо мной насмешки-то строишь?
— Каки насмешки?
— Да кто ж тебя просил мою икону-то отодвигать, а? Да нешто она, матушка, не достойна? Нешто она хуже твоей-то, а? Перед своей, небось, зажгла, а мою в сторону… Не-е-е-ет, врешь!..
Она полезла к иконам и, отодвинув золовкина Иоанна Крестителя, поставила свою Казанскую так, как она стояла до этого.
— Ты бы ее, матушку, догадалась, сука ты горбатая, взять да к порогу бы вон шваркнуть! — сказала она, зажигая, в свою очередь, свой фитилек. — Ишь ты, хозяйка выискалась!..
Золовка заплакала, заругалась, закричала и, обозленная вконец, схватила свою икону, поставила ее в угол на подоконник, перед ней поставила лампадку и, воя, принялась класть земные поклоны.
Когда началась ссора, Ивана дома не было: он был в церкви у заутрени, а лежавший на полу старший его сын Мишка, учившийся в школе последнюю зиму, наблюдал эту сцену, выглядывая из-под дерюжины, и смеялся, зажимая левой рукой рот.
Придя домой из церкви, Иван застал ругань в самом разгаре. Бабы до того обозлились и иссквернословились, что еще немного — и они, как кошки, вцепились бы друг в дружку.
— Дуры вы, чертовки, — сказал он, выслушав со слезами кричавшую и жалующуюся на золовку жену. — Дубье проклятое! У людей праздник, в церковь идут, а у нас с раннего утра своя служба…
— Да чиво ж она озорничает? Икону мою взяла отшваркнула, а свою поставила на это место.
— Дуры вы! — повторил Иван. — Бить вас надо… одно с вами средство… надоели вы мне, собаки!..
Он кое-как, на скорую руку, хмурый и сердитый, пообедал и полез на печь отдыхать…
Но отдыхать не пришлось. Бабы не унялись и продолжали переругиваться, хотя и не так злобно, как прежде.
В люльке, висевшей на длинном очепе, почти посреди избы, кричал годовалый ребенок, на которого Макрида, занятая перекорами, не обращала внимания. Этому крику вторил Мишка, принявшийся учить уроки, заданные на рождественские праздники.
Он сидел, зажав обеими ладонями уши, и учил из священной истории, громко, как дьячок с клироса, выкрикивая: «У Иакова было двенадцать сыновей: Рувим, Симеон, Левий… Все они называются патриархами или праотцами. От них произошел народ еврейский…»
Иван слушал и думал про себя.
«Ни к чему это… „народ еврейский“. На кой он нам пес?! Учили бы считать как на счетах, и все такое… А это все одно: выйдет из училища — и забыл, и пока жив будет — не понадобится…»
— Мишк, а, Мишк! — закричал он, — Ми-й-й-шка!..
Мишка, занятый делом, с закрытыми ушами, не слыхал. Макрида толкнула его и сказала:
— Отец кличет… оглох… зачитался. А чего читает — не поймешь…
— Ты что, тять, а? — спросил Мишка, подняв голову от книжки и глядя на печь.
— Ты бы, сынок, задачи делал, — сказал Иван, — счету бы учился, — как можно… вникал бы, а это что?.. Это от тебя не уйдет!..
— Да, ишь ты какой, не уйдет! — воскликнул Мишка. — Завтра батюшка придет спросит… Не выучи-ка ему, он те задаст!.. Пропишет по первое число!.. Задачи я знаю… Давай, любую сделаю.
— Ну, ну, — согласился Иван, — учи, делай, как складнее.
Мишка зажал уши и опять принялся за урок. Бабы притихли. Иван закурил и лег навзничь, прислушиваясь к голосу сынишки и думая, что скоро его надо будет отдавать в Москву в ученье к знакомому мастеру башмачнику. Дело это уже решено. Хозяин мастер брал парнишку, как только года ему выйдут, себе в ученье на четыре года.
Читать дальше