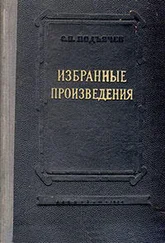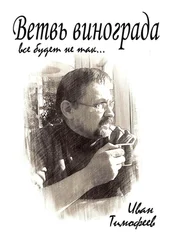Вдруг тишь нахлынула сквозная.
И в полновластной тишине
спел соловей,
еще не зная,
что он поет не на войне.
Мне не забыть тот стебель колкий,
что вышел в свет из глубины,
раздвинув ржавые осколки
едва умолкнувшей войны.
Случайный гость на поле боя,
качался он на ветерке.
И был великий миг покоя
в том одиноком колоске.
Его беспомощность исчезла,
и стать пшеничпая была
сильнее маршальского жезла
и орудийного ствола.
Названья улиц нового района…
Они плоды не прихоти слепой:
в них щелкают ппчуги упоенно,
цветут сады и слышится прпбой.
Но посреди Цветочных и Тенистых,
роскошных скверов, тротуарных плит,
внезапно строго, как сигнал горниста,
военное пазванье прозвучит.
Озон весны живителен и гулок.
Хоть я не назову координат,
привет, Артиллерийский переулок!
Ты — отзвук отгремевших канонад.
Теперь вокруг, на обновленной суше,
надсадно минометы не ревут,
красивые гражданские Катюши
военных тезок вспоминают тут.
Приходит ночь, кончается прогулка,
весь город отдыхает от трудов.
Бессонное названье переулка
стоит на страже улиц и цветов.
Ах, старый, старый, старый патефон,
трофей войны из вражеского стана!
Нерусскую пластинку крутит он,
гусынею шипит его мембрана.
Мембрана с дребезжаньем выдает
охрипшее, простуженное танго.
А в памяти встает разбитый дот,
и стены сотрясает рокот танка.
И госпиталь. И стон. И вечера,
поспешно забинтованные вьюгой.
И патефон заводит медсестра —
лицо мадонны с ямочкой упругой.
Рукой усталой щеку подперев,
сидит за полночь, словно ей не спится
чужой певицы слушает напев —
и что-то набегает на ресницы.
Промчалась ночь.
Вой «юнкерсов» с утра.
И бомба оглушающая рядом.
И крутится пластинка.
А сестра
глядит на мир остекленевшим взглядом.
Но дни бегут, как блики по волнам,
бегут и не хотят остановиться.
Немало лет военным орденам.
Уже сдают пластинка и певица.
Хозяин сед. Но снова ставит он
мотивчик острой незажившей боли.
Ах, старый, старый, старый патефон,
в конце концов уже сломайся, что ли!..
«Не мог я знать, что в том горниле…»
Не мог я знать, что в том горниле,
где обмякаешь, словно куль,
мне точной пулн не отлили
среди десятков тысяч пуль.
Не знал, что жить мне, видно, долго,
что я друзей переживу,
что буду падать от восторга
в послевоенную траву.
Что подниматься буду с нею
навстречу солнцу и дождям,
и понемногу поседею
п что-то памяти отдам.
Не мог я знать, что, карауля
урочный час среди забот,
однажды в сердце, словно пуля,
чужая женщина войдет.
Что, вопреки былым победам,
под самым мирным гулом дня
уже хирургам и начмедам
не вынуть пули из меня.
Что, победив и ложь, и сплетни,
как там по датам ни суди,
я буду жить, двадцатилетний,
с прекрасной пулею в груди!
О, как далек он, первый День Победы!
Салют сирени так неумолим…
А мы, тех дней живущие полпреды,
на оживленной улице стоим.
Опять в листве пичуги загостили.
И соловей сзывает соловьих.
Давай посмотрим, как мальчишки в тире
в мишени бьют из ружей духовых.
Вот начинает мельница вертеться,
со стуком на бок падает дракон.
И почему-то вздрагивает сердце,
как будто воздух взрывом опален.
Зачем через потери и лишенья
людская память вновь проводит нас?
Мальчишки в тире целятся в мишени,
прижав приклад и щуря левый глаз.
Хлопки стрельбы доносятся из тира.
Вертись, ветряк! Драконы не страшны.
Что ж, мальчики! Пока дороги мира
проложены поверх дорог войны.
Когда нам негде вырыть мину
н дот нельзя закрыть в бою,
я настоящего мужчину
совсем иначе узнаю.
Я суд над ним вершу легко мой
не по тому, как он побрит,
а что о женщине знакомой
другим мужчинам говорит.
И коль о падшей или падкой,
коль о святой и не святой
он не позволит фразы гадкой —
я с ним пойду, пожалуй, в бой.
Читать дальше