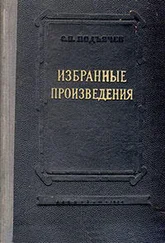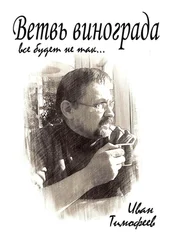И только после омовенья
он сыпал птичке коноплю,
шепча сквозь слезы умиленья:
— Клюй, птичка, я тебя люблю!
И снился немцу сон нередкий:
стоит он перед клеткой той —
и вся Германия по клетке
порхает птичкой золотой.
Но час пришел скончаться рейху.
И, чуя ненависть и страх,
убил хозяин канарейку
рукою в рыжих волосках.
И, памятуя о гестапо,
смахнул слезу с мясистых щек
и вышел из дому на запад,
но озираясь на восток.
…А мы форсировали берег
реки, последней в той войне,
чтоб всюду можно было верить
слезам с улыбкой наравне.
Был с солдатом схож я мало,
был я тощим, словно тень.
И владел из арсенала
лишь пилоткой набекрень.
И в рождении солдата
оказалась виновата
не винтовка со штыком,
не граната,
а лопата
с узловатым черенком.
В сорок памятном под Курском,
давним братом соловья,
довелось мне тем искусством
овладеть от «а» до «я».
Тощий, словно Мефистофель,—
ротный часто повторял:
— Рыть окопы в полный профиль!
Ночью будет генерал…
Мы плевали на ладони,
материли ту войну
и в намеченном районе
поднимали целину.
Мы вгрызались в бок планеты,
так стремились в глубь Земли,
что лопаты, как ракеты,
раскаляясь, руки жгли.
Но по мненью генерала,
что являлся в час ночной,
было мелко, было мало…
День кончался — и сначала
мы долбили
шар земной.
На руках росли мозоли
толще танковой брони.
Утром падали мы в зори,
погибающим сродни.
Обретали пальцы черность,
обретали вес слова.
И росла ожесточенность
в каждой клетке существа.
И еще не знали танки —
те, с крестами на боках,—
что они уже останки
смертоносных черепах.
Что трястись им на ухабах —
только смерть искать свою,
что свернет стволы им набок
чье-то мужество в бою.
А пока еще солдаты
тяжко охали во сне.
И железные лопаты
остывали в стороне.
«Закон снабженческий свиреп…»
Закон снабженческий свиреп,
старшины действовали зорко.
По норме были соль и хлеб,
портянки, сахар и махорка.
И только жаль в конце концов,
что все, что было, хлеб и мыло,
на трусов и на храбрецов
уставность поровну делила.
Катился орудийный вал,
сметая толстых, тощих, лысых.
И по утрам не совпадал
под вечер выверенный список.
И выстрел, метивший в бойца,
был словно точка лаконичен.
Что говорить — паек свинца
был на войне неограничен…
Вещи могут становиться вещими,
могут превращаться в пустячки.
Подарили куклу взрослой женщине,
и у куклы дрогнули зрачки.
И глаза у куклы стали круглыми,
двум большим горошинам под стать:
— Разве взрослым позволяют с куклами,
словно малым девочкам, играть?!
Погоди — а ежели не мелочно,
отрешась от будничных забот,
стать на миг счастливой, словно девочка,
что в душе у женщины живет?..
У девчонки в детстве куклы не было,
кроме дара взорванных годов —
маленького чудища нелепого,
жгутика из рыженьких бинтов.
Детство шло недетскою дорогою —
то война, то просто недород.
Кукла, вы не будьте слишком строгою
с женщиной, что в руки вас берет.
«Мой вещмешок… Что было в нем?..»
Мой вещмешок… Что было в нем?
Портянки, концентрат с пшеном,
на случай — лишняя граната,
да лист с такою колдовской
размытой маминой строкой,
благословляющей солдата.
Кто знает, правда или нет,
что этот лист спасал от бед,
был верной грамотой охранной.
Но я пришел домой с войны.
И миром дни мои полны
и лихорадкой чемоданной.
Материки и города,
крутая пенная вода,
и поезда, и самолеты…
Сегодня в спутники мне дан
не вещмешок, а чемодан
отличной фирменной работы.
Он свежей кожею пропах,
он полон галстуков, рубах,
костюмов модного покроя.
Но нет письма в нем с колдовской
размытой маминой строкой —
и беззащитен я порою.
Я не забуду, как сказанье,
пустую сцену, где в пыли
саперы с красными глазами
безмолвно щупами вели.
Читать дальше