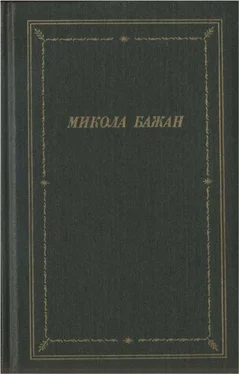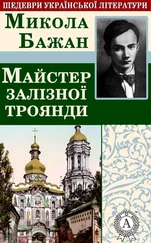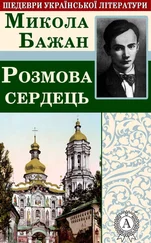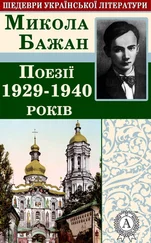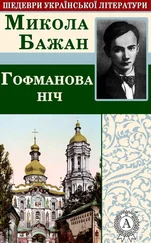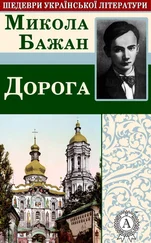Утром снова зашумело, загудело, завело
так, что в рамах забренчало недобитое стекло.
То на площадь у вокзала, крыта пылью и загаром,
шла музыка и сияла медь, подобно самоварам.
Снова горны загорнили, бахнул басом барабан.
Снова гром копыт пронесся и тачанок ураган.
Гей, тачанка за тачанкой, все в коврах, за рядом ряд.
На них сена по вязанке, пулемет на время снят.
А на этом сене боги развалились тяжело,
чтоб не било, не валило, не ломало, не трясло.
А вокруг глазеют толпы уманцев и уманчанок
и глядят не наглядятся на процессию тачанок.
Всяких уманцы видали им неведомых гостей,
штук двенадцать за полгода перевидели властей,
но таких вот, небывалых, лучезарных и чудесных,
не видали никогда здесь на улицах уездных.
Вот поднялася богиня на крытой коврами тачанке,
белые очи уставив в дымку уманских улиц.
Смотрит поверх людей. Серы они и невзрачны,
горестны и угрюмы, но не устроят глумленья
над обнаженным телом, над животворным лоном.
Вслед за богинею бог кажет разбитой рукою,
словно путь указует сквозь Умань в вечность, в сиянье,
в светлый гай Украины, в добрые думы народа.
Встал на третьей тачанке гигант крутобородый —
стан завернут в хламиду, он к толпе наклонился,
хочет щедрой рукой людям отдать свой свиток,
Кто с полным правом примет через два тысячелетья
писанную великаном повесть о бедах и вере?
Юноша, вестник крылатый! Какие несешь ты вести
бедным домишкам местечка, шумным каштанам парка?
Что ты несешь? Отраду? Отблеск небес? Упованье?
О, утоли нашу жажду! Развесели наши взоры,
горькие взоры. Мы — люди, мы — боги из плоти и боли.
Мы дожидаемся вести, подвигов наших достойной,
и принимаем вас, жители горных вершин,
не как пришельцев сторонних, как неразлучных друзей,
милости просим к нам, в наши земли и думы.
Так или очень похоже
думал в тот час комиссар,
едучи сзади тачанок
и подгоняя гнедую прутиком свежей лозы.
Год был щедрым на ливни. Шла гроза спозаранок.
Выпьют боги Эллады нектар степной грозы.
1968 Перевод Д. Самойлова
Поле пыли и пала.
Спорыш на тропе. Репьи.
Выгоревшие кварталы,
Заплывшие колеи.
Ни могил. Ни домов. Ни стен.
Поле печали. Тлен.
Рваная жесть злющая,
Кирпичной кладки пеньки
И тесно к руинам льнущие
Памяти ручейки.
Дай ты мне руку. Дай руку.
Пойдем по золе вдвоем
В прозренье, в терзанье, в муку,
В прорезаемый вспышкой тревог окоем.
Дай руку, мое видение,
Пойдем, как мною задумано,
Через горькое запустение
К яру расстрелянных в Умани.
Вот и ты. Приостановилась,
Всматриваясь в свой же след.
Ни капли не изменилась
За все сорок восемь лет.
Дай руку мне. Бугры и ямы
Я вижу сквозь тебя. А там
Твой отец и моя мама
Спускаются сверху к нам.
И сквозь них маячат мне просторы,
Вы тени, вы моя печаль,
Расстрелянная здесь Дебора,
Глядящая куда-то вдаль.
Дай руку. Дай руку, мертвая,
Дай руку, еще живую,
Руку, к нам простертую,
Когда на труху степную
Ты пала, давясь немотою,
Заламываясь в яру.
Я пальцы твои беру,
Словно даянье святое.
И вот мы с тобой идем, одиноки,
На десять веков как проложенный шлях,
И звучат на твоих побледневших губах
Былых поэм угловатые строки.
И думы мои, следопыты,
Раскопщики давних гробов,
Бегут по тропе, пробитой
Меж высохших русл и годов.
Прикручен к их черным марам
Чудовищно грузный вьюк,
И выбран тот путь недаром,
Не пригрезился вдруг.
Проваливаясь в канавы,
Спотыкаясь о пни,
След роняя кровавый
На жестких пучках стерни,
Они пробегают мимо
Изгаженных пустырей,
И глиняных стен незримых,
И вышибленных дверей,
И быта останков тленных,
И горелых досок,
И халуп незабвенных,
И призрачных синагог,
Мимо собора греческого,
Где образа в позолотце,
Мимо подворья певческого,
Где в гайдамацком колодце
Горстка полых костей
В толще черного ила,—
В слезящейся цвели могила
Гонты двоих детей.
Мимо костров гайдаматчины
И плаца того, где колья
Ставили в ряд для схваченных,
Чтоб вопль их, мучимых, раскоряченных,
Весь город скручивал болью.
О, монастырь униатский!
Зданья спесиво молчат
Над буйным майданом козацким,
Над плачем порушенных хат.
В этих залах просторных,
В этих безмолвных стенах,
Место для мар черных
С криком всех убиенных.
Так ставьте же мары! Да станется чудо!
Пусть свет нестерпимый ударит оттуда,
И память, как Лазарь, восстанет и плат
Отбросит с лица, и развеется смрад.
Читать дальше