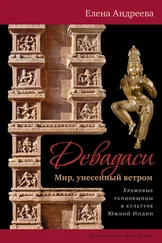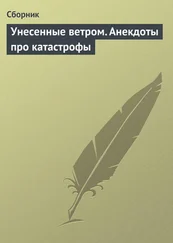Утром, придя в себя, побрившись, приняв душ, выпив крепкого кофе, он направлялся в клинику. Джоан все больше бледнела, теперь ее кожа приобретала какой-то зловещий шафрановый оттенок. Врач, наблюдавший ее в клинике, мсье Морандон, настаивал на операции.
— Вы понимаете, — говорил он, — опухоль разрастается, она сжимает желчные протоки.
Морандон немного говорил по-английски, но для убедительности он разводил длинные гибкие пальцы, изображая, как разрастается опухоль, как она что-то сдавливает.
Коули видел, как страдает Джоан. Иногда она замирала, скорчившись и слабо постанывая. Он знал, что если уж она показывает при нем, что ей больно, значит, боль нестерпимая.
Он уговаривал ее решиться на операцию, но она только качала головой.
— Это же ничего не решает, Билли, — устало и просто говорила Джоан. И это было все равно, как если бы она говорила: «Билли, ты же знаешь, что за летом приходит осень, а уж за нею зима».
— Надо решаться, старушка, — сказал он в который уже раз, сам нисколько не веря своим доводам.
— Нет, — она покачала головой. — Забери меня отсюда, милый. Я хочу в Лондон.
Они покинули «Крийон», когда уже была слякотная французская зима. Коули нанял автомобиль, который отвез их в Гавр — со всеми их вещами, с львиной шкурой, в которой, как уверяла Джоан, уже начинала заводиться моль.
Февраль в Британии похож, пожалуй, только на февраль в Британии, подумал Уильям Коули. И он тут же спохватился: не должны ему в голову приходить такие мысли, потому что он возвращается с кладбища, на котором упокоилась Джоан Пиккет Коули, его жена.
Густой туман наползал клочьями, а в перерывах между этими клочьями проглядывало солнышко, и тогда видно было, что трава уже достаточно подросла, что она ярко-зеленого цвета, новая, а не пожухлая прошлогодняя. Как ни странно, но Коули окружающий пейзаж при солнце казался более зловещим.
«Все мы, англичане, снобы и консерваторы», — кто же из этих проклятых англичан так выразился? Это уж точно, это у них не отнимешь. Наверное, погода и островная жизнь сделали их такими. Джоан была лучшей из всех англичан. Она вообще была лучшим человеком из всех, кого он когда-либо знал. И ей суждены были ужасные муки перед тем, как оставить этот паршивый мир.
Паршивый, паршивый, вонючий мир.
Коули обнаружил, что откололся от родственников Джоан и теперь идет один по дороге от кладбищенской ограды до квартала невысоких двух — и трехэтажных домишек с высокими крышами. Господи, как у них тут тесно, подумал Коули. Кладбище в ста ярдах от жилища. Совсем как в Таре. Странно, что он вспомнил о Таре. Родные места, куда ему вовсе не хотелось возвращаться. Ему вообще не хотелось никуда идти, ехать, плыть, лететь. Очень плохо только, что такое состояние охватило его здесь, среди этих сволочных англичан. Первый муж Джоан был на похоронах. Вот уж не удивительно, что Джоан разошлась с ним. Удивительно, как с таким типом может жить женщина, тем более такая, как Джоан. Ее бывший муж — судья. «Ваша честь» — так они, кажется, величают судей? Этой их чести сорок с небольшим, но выглядит их честь на все пятьдесят — отчасти наверняка из-за своего занудства. У него лысина, которую он на заседаниях суда прикрывает париком. Они все там надевают парики — традиция. «Его честь» — мумия, из которой вынули всю требуху, а взамен запихали туда чванство, ворох предрассудков под названием «здравый смысл», да еще клубок правил типично британского этикета. И этот сукин сын прожил с Джоан несколько лет. Это абсурд какой-то. Здесь все отмечено знаком абсурда, за их растреклятым Английским каналом. Он, Уильям Коули, определенно свихнется. При его нынешнем состоянии запросто можно пустить себе пулю в лоб, что вообще — то было бы неплохим выходом из ситуации.
Эти вонючки повели с ним осторожные разговоры о наследстве. Им очень интересно было, полностью ли перейдет дом Джоан к ее детям, или не полностью. Они подумали, что муж Джоан захочет остаться здесь. Вот так они привыкли, живя здесь в страшной тесноте, отвоевывать друг у друга дюйм за дюймом.
Теперь он шел по улице, типичной лондонской улочке — закопченные кирпичные фасады, газончики размером с почтовую марку, почтовые ящики, выкрашенные в ядовито-синий цвет.
Ох ты, подумал Коули, да ведь у меня и в самом деле что-то с мозгами происходит.
Вывеска паба подействовала на него примерно так же, как действует внезапный ливень на ошалевшего от жары и жажды путника, бредущего по пустыне.
Читать дальше


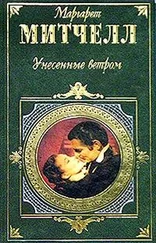
![Николай Метельский - Унесенный ветром. Книга пятая [СИ]](/books/35482/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-kniga-pyataya-thumb.webp)