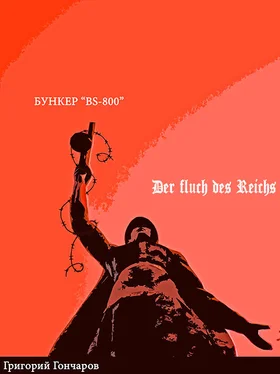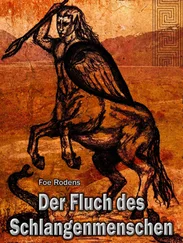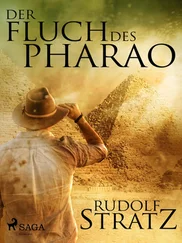— Не хочешь?
— Не могу! Я же тебе говорила, что я не из тех девушек; не из тех, кого ты, может быть, хочешь во мне увидеть в этот момент! Не торопи события, Андрей!
— Ладно, как скажешь. Я просто боюсь тебя отпускать, — боюсь, что с потолка в моей ванной больше никогда не потечёт вода, и у меня не будет повода зайти к тебе!
— Заходи без повода — я всегда тебе рада! И никуда я не денусь, так что не терзай себя лишними переживаниями, и иди спать!
Она была права — я действительно еле стоял на ногах, и только сейчас почувствовал усталость, тяжёлой ношей свалившуюся на мои плечи, наполнившую свинцом мои мышцы, песком — глаза. Мы попрощались, и молча, словно вымотанные после тяжёлого кросса спортсмены, разошлись по своим квартирам. Оказавшись дома, я вновь почувствовал запах размокшей побелки, пыли, еле уловимый оттенок никотинового смрада, — когда-то у меня собирались друзья, любившие подымить на кухне; — и ещё я почувствовал запах пекущихся в раскалённом масле блинов — соседи просыпались, дом потихоньку оживал еле уловимыми запахами, звуками. Я услышал негромкий стук — звук донёсся сверху: наверное, она сбросила непослушный сапог, который стукнул каблуком о мой потолок. При мысли о том, что Маша рядом, за двадцатисантиметровой бетонной плитой, которая нас отделяет — на душе стало тепло и спокойно. Бросив быстрый взгляд на не распакованный после полевого выхода рюкзак, я прошёл в ванну, не глядя на потолок, выкрутил до упора оба крана смесителя, и встал под острые, — словно иглы для шитья, — струи горячего душа. Смыв с себя естественный лесной камуфляж, — в виде серой пыли, которая грязными водяными струями устремилась в слив, — я прошлёпал босыми ногами к кровати, и без сил рухнул на необычайно мягкую, — после наломанного лапника, и спального мешка с продавленной ватой, — кровать. Казалось, что эта кровать, — перед выходом в поле застеленная чистым бельём, — эта кровать является фантасмагорической иллюзией, спроецированной моим уставшим без мыслей умом. Я провалился в мягкую кровать без сил, белый сплошной туман небытия, словно облако, затянул мои отяжелевшие веки.
— Эй, Симак, хорош дрыхнуть! — злой голос послышался сквозь нависшую пелену сна, отделяющую явь от небытия.
Послышалась матерная ругань — злой, сиплый, и совершенно незнакомый голос, владелец которого был чем-то недоволен, ругался, и как я понял — ругался именно на меня. Сил разлепить склеившиеся клеем усталости веки не было.
— Вставай, крот, я тебе говорю! — после этих слов, которые были сказаны несколькими тонами выше предыдущих, я почувствовал сильный тычок жесткого ботинка в свой бок.
Сильная боль электрическими разрядами прошила моё тело, каким-то неведомым образом мне удалось всё же открыть глаза, и я увидел перед собою лицо незнакомого мужика, глаза которого были налиты кровью.
— Если сейчас же не встанешь, то пикой распишу «под жмура», падла!
В его руке блеснул наточенным остриём нож, лезвие которого покрыто причудливой гравировкой; он замахивался, и вонзал его лезвие в моё тело. Глаза этого человека гипнотическим огнём прожигали меня, парализовали тело, которое уже саднило миллионами ран. Хотелось, несмотря на нестерпимую боль, подняться, вскочить, найти, нащупать какой-нибудь предмет, который можно было бы использовать в качестве оружия, и разделаться с нападавшим. Но как назло, тело перестало мне подчиняться, — и даже спрессованный в тяжёлый стон крик боли, застывшей где-то внутри меня, не мог вырваться на свободу. За спиной моего палача, вновь и вновь вздымающего руку с зажатым в ней ножом, лезвие которого было окровавлено, я увидел Машу. Она смотрела на меня грустными, наполненными болью, глазами, и вздрагивала каждый раз, когда «палач» вонзал лезвие в моё ставшее бесчувственным, тело. В какой-то момент бесноватый мужик то ли почувствовал, что за его спиной кто-то есть, — то ли он уже понял, что от меня осталась лишь груда мяса, и потерял ко мне интерес. Он обернулся, повернул своё забрызганное моей кровью лицо, к ней. Поднял руку — даже рукав кожаной куртки, в которую он был облачён, забрызгала кровь. Я попытался, преодолевая боль, подняться, что-то крикнуть — но все события, которые разворачивались передо мною, подёрнулись белой пеленой, сквозь которую уже с трудом можно было различить Машу, и надвигающуюся на не опасность. Боль ушла, стала далёкой, чужой. В последний момент я увидел, как перед Машей выросла рослая фигура человека без лица, в форме советского солдата, к груди он прижимал безошибочно угадывающуюся даже сквозь налипший на глаза туман, винтовку «Мосина». Он загородил Машу — и я почему-то был уверен в том, что он защитил её. В этот момент силуэты людей растворились, в ставшем похожим на молоко, сконцентрировавшимся в густоте тумане. Я проснулся. Ощупал своё тело — ран, конечно, не было, мне приснился страшный, дурацкий сон.
Читать дальше