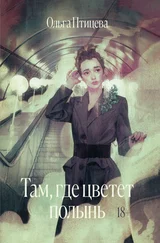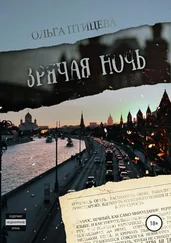— Я и не держу, — обижено проворчал волк.
Леся засмеялась бы, да не хотела безумиц пугать. Они стояли на верхушке склона, поросшего жухлой травой. Все — пронзительное ожидание, нетерпеливое предвкушение, страх и томительная боль прощания. Озноб бил их измученные тела. Ветер трепал волосы. Мялись в вспотевших ладонях грубые края рубах. Леся шагнула вперед, ласково потянулась к ним, позвала тихонечко. Не различить их было. Сплелись черты, соленой водой смазались. Что одна, что другая, как сестры, как отражения. Только боль у каждой своя была. На тонкой шее одной сидела она, скалила острые зубки. Лес почти изгнал ее, обессилил, вымочил дождями, выдул свободным ветром. Сама безумица держалась за боль, как за уголок платка, упавшего с плеч в самую грязь.
— Отпусти Тварюшу, милая, сама ты ее держишь, — попросила Леся.
Тень пошла волнами, поредела. Еще чуть, и исчезнет. Захотеть только, распрощаться с платком, затоптать в пыль и пойти дальше. Может, вернется еще. Может, растворится на солнце. Кто знает? Кто решит? Леся повернулась ко второй безумице, глянула ей в глаза. А в них тьма. Неизбывность. Руки сильные, что мяли когда-то самое мягкое, и до сих пор мнут, терзают, не забыть. Равнодушное неверие. Пустые слова. Позор. Позор на весь род. Не кровь, а гной. Не гной, а смерть.
— Не прощай их, — звеня от злости, сказала Леся. — Никогда не прощай.
Безумица вскинула лицо. Глухая ярость пылала на нем. Не простит. И жить будет, пока не отомстит рукам этим. Равнодушию этому. А потом уйдет. На луга свои бескрайние. В тишину и полуденный зной, жужжащий и густой, пахнущий травами и солнцем.
— Нет над вами у леса силы. И не будет, — пообещала им Леся. — Идите.
Дважды просить не пришлось. Безумицы сорвались с места и побежали вниз по склону. Леся проводила их взглядом, но туда, где поскрипывал ржавой сеткой дом, безмолвный и серый, как могильный камень, она не смотрела. Казалось, глянь разок внимательно, и он затянет, будто омут, забарахтаешься, упадешь и покатишься к нему, бессильная и покорная. Обреченная сгнить под надзором равнодушных взглядом.
— Суземова, — раздалось над ухом. — Суземова, на укол вставай. Вставай, говорю, Суземова. Дрыхнуть дома будешь.
Леся вздрогнула, сглотнула ком, попятилась через силу, словно из липкого вырвалась. Сердце билось загнанно. Уйти. Скорее уйти. Скрыться за деревьями. Упрятаться в самую чащобу. Чтобы окна пыльные не глядели в душу. Чтобы не узнал никто. Не назвал по чужому имени. Не схватил. Не заломал руки. Не впился иглой, чтобы утопить в мороке, в киселе проклятом, без памяти и воли.
— Пойдемте, — жалобно попросила Леся. — Не надо смотреть.
Волк и Лежка так и не переступили черту перелеска. Стояли под хилыми ветками осины, топтали пыльную сурепку. Будто дети, что тропинку до дома потеряли. Если ей, сбежавшей из человечьего города, было страшно, что за жуть снедала лесной народ за шаг до последней черты? Леся взяла их за руки — осторожно, ласково, как слепых, и повела прочь от склона. Туда, где мрачно смотрели на них усталые сосны.
Там-то все и завертелось. Вспыхнуло заревом далекой грозы, взметнулось нежданным ветром, пригнало хмарь в одно мгновение. Сухая гроза, предвестница большой воды, готовой хлестать с небес без продыха два дня и три ночи, чтобы к последнему рассвету грязные потоки снесли в болотину весь лес до последнего куста сурепки.
— Слепая курица! — рычал волк, скаля желтоватые зубы. — Прочь пошла! Уходи! Иди отсюда, пока не подрал.
Леся с удивлением глядела на него, не узнавая привычных черт Демьяна. Он гневался, жар его злобы расходился обжигающими волнами. Но за яростью этой, слепой и жгучей, прятался страх. Привычный ход вещей нарушился. Пришлая безумица решила остаться, а лес принял ее, только кронами качнул. Странно это, а потому страшно. Лесе захотелось погладить его по голове, смахнуть с раскрасневшегося усталого лица волосы, запустить пальцы в жесткую бороду. Прикосновения его еще горели на коже Леси, расцветали на ней, словно кувшинки в спокойной воде. Дотронуться бы до волка, щерившегося на Лесю, как на врага кровного, приласкать, успокоить. Рассказать, как покойно и тихо стало в лесу от простого ее решения остаться. И болотина подсохла в низинах, и птицы запели звонче. Приласкать бы его. Только ласки этой волк бы не принял. Не признал ее. Страх заслонил ему глаза, опустился багровой пеленой.
— Уходи, говорю, — глухо прорычал. — Пока отпускаю, уходи.
В рыке его была жажда крови. Свежей, горячей, пролитой без причины и вины. Без искупления пролитой. Как привычно было лить ее рукой Хозяина. Блеснет сонная вода, окрасится в красное, помутнеет. Вздрогнет лес, мучительно всколыхнется в самых недрах своих, в главных устоях, где кровь не льется в воду, где любая смерть творится во имя жизни. Нет убийц среди зверей, есть охотники. Один только человек умеет рвать и кромсать себе на радость. В угоду себе. В успокоение. Гнев зашумел в Лесе, заскрежетал сухими ветками. Она и не поняла толком, отчего гневается, что открылось ей из ниоткуда — из прозрачного воздуха и молчания сосен, но слова уже сложились на языке, говорить их было жгуче и сладостно, обвинять — легко и упоительно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Ольга Птицева Брат болотного края [СИ] обложка книги](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-cover.webp)


![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Талан - Брат короля [СИ]](/books/417914/olga-talan-brat-korolya-si-thumb.webp)